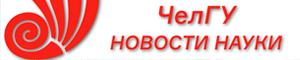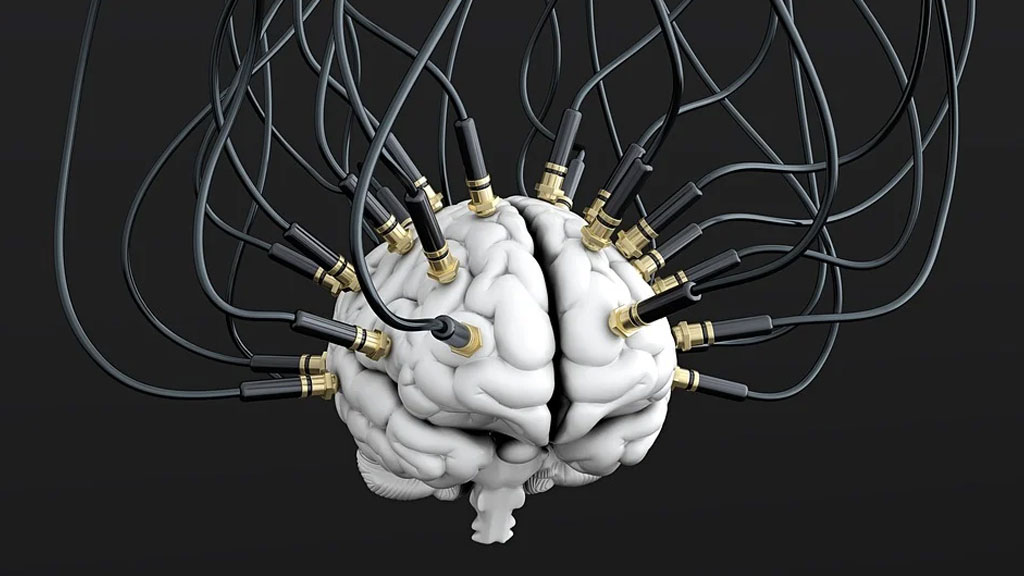24 мая исполнилось 75 лет со дня рождения Иосифа Бродского – русского поэта, эссеиста, драматурга, переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе 1987 года. Это был человек, ломавший стереотипы и в жизни, и в творчестве. Поэтому NDNews.ru решил отойти от традиции, когда СМИ что-то рассказывают публике, и предложил читателям рассказать нам о Бродском. И мы узнали много интересного не только о поэте и его времени, но и о России вообще и своих современниках в частности.
Откуда у Бродского вельветовый пиджак?
Игорь Лобанов, музыкант
Помню, несколько огорчился, когда прочитал по «наводке» одного из друзей абсолютно не совпадающие с моим восприятием поэзии Бродского – что «советского», что « западного» периодов – максимы Дмитрия Быкова в его эссе о Бродском: «В огромном корпусе сочинений Бродского поразительно мало живых текстов… Едва ли сегодняшний читатель без усилия дочитает «Шествие», «Прощайте, мадемуазель Вероника» или «Письмо в бутылке» – хотя, несомненно, он не сможет не оценить «Часть речи», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» или «Разговор с небожителем»: лучшие тексты ещё живого, ещё не окаменевшего Бродского…» Расстроился потому, что сама персона Быкова была мне симпатична, хотя его сексуализация и эротизация всего и вся мне слегка претит. Ну, возможно, поэтому мне и «по душе» пониженная, по мнению довольно широкого круга критиков, эмоциональность поэзии Бродского.
Но я вообще совершенно иначе воспринимаю поэзию Бродского – как очень живой, как бы насыщенный кислородом мысли и очищенный от шелухи «опрощения» советской поры, русский язык. На мой взгляд, в третьей четверти ХХ-го века Бродский проделал с отечественной литературой тот же фокус, что в начале XIX века – Пушкин: он поставил ее вровень с европейской, сделал сюжетной и, одновременно, космической. Только Пушкин демократизировал «высокий штиль», принятый в поэтических жанрах до него, а Бродский, напротив, вырвал поэзию из тисков заидеологизированной убогости и тем, и формы.
Что же касается уже ставшей трюизмом формулы о чрезмерной метафизической усложненности его текстов – тоже не соглашусь: и меня, да и многих других читателей поэта, его чисто сформулированные мысли как-то гармонизировали в своем индивидуальном одиночестве со всем остальным миром… С другой стороны, это же неплохо, что Бродский нравится не всем – всеобщее обожание всегда кажется подозрительно неискренним. Оценил же с исключительно с негативной стороны его творчество предыдущий русский литературный нобелевец Солженицын, которого не «устраивали» сами мировоззренческие установки Бродского.
Мне же – у каждого ведь свой Бродский – просто вскружила голову музыкальность его поэзии, он такой же мелодист в отечественной поэзии, как в музыке Чайковский или Верди, если исходить из любви Бродского к итальянскому искусству.
Кстати, один из моих знакомых – скрипач, профессор Петербургской Консерватории и просветитель по призванию – на своих лекциях для широкой (да и, узкой) аудитории, рассказывая о странностях и прелестях джаза, неизменно использует в качестве примера этого жанра поэзию Бродского. И не потому, что джазовые реалии, имена музыкантов, названия произведений нередко встречаются в текстах поэта (неудивительно – ведь эта музыкальная сфера была для многих советских людей и звуковым оазисом, и неким символом «инакомыслия»), как например, в большом стихотворении «От окраины к центру»:
Джаз предместий приветствует нас, слышишь трубы предместий, золотой диксиленд в черных кепках прекрасный, прелестный, не душа и не плоть – чья-то тень над родным патефоном, словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном.
И не потому, что помимо любви и интереса с юности к этой музыкальной сфере, Бродский испытал влияние польского поэта К. Галчинского, в чьем творчестве есть элементы «джазовой поэзии» (над переводом его стихов ИА работал с начала 60-х годов). А потому что в его стихотворной архитектонике есть моменты, схожие с джазовыми нарративными, композиционными приемами, сознательно или интуитивно использованные поэтом. Так, форма «Пьесы с двумя паузами для сакс-баритона» близка типичной для джазовой композиции – двухчастной репризной.
Этот мой приятель, кстати, как-то поведал свою « бродскиану». Он учился в той же школе, что в 1955-м году бросил 15- летний Бродский. Но, естественно, много позже, ибо в 55-м только появился на свет. И вот у них сохранилось несколько преподавателей из тех времен – «жутких шкрабин», по его определению, одна из которых (то ли химик, то ли математик) все время ему говорила: «Вот останешься на второй год и будешь как позор нашей школы Бродский: даже 8 классов не закончил, попал в тюрьму, лечился в дурдоме, пишет стихи, которые не понимают даже университетские профессора литературы…»
А в июне 72-го, как раз когда Бродского выслали из СССР, Витя и его одноклассники сдавали выпускные экзамены, и кто-то принес на экзамен или даже торжественный вечер, где вручали аттестаты, фотографию или даже фотографии поэта в Пулково, сделанные перед тем, как он покинул родной город навсегда… А в классе учились дети и продвинутых ленинградских переводчиков, и сотрудников всевозможных издательств- редакций, и «профессоров литературы», ценивших и знавших в самиздатовском варианте поэзию Бродского, и познакомившего с нею своих дочек- сыночков в порядке эстетического, а может и этического воспитания. Так что интерес фото вызвало большой. Но, к сожалению, попалось на глаза какому-то зоркому представителю администрации, что тут же устроила воспитательную «акцию» десятиклассникам: «Хорошенький же пример вы выбрали себе для подражания на пороге новой жизни: хиппи и диссидент…
А вы посмотрите, во что он одет! Джинсы, дефицитная водолазка и вельветовый пиджак. Откуда у Бродского этот дорогой модный вельветовый пиджак?! И еще неизвестно, что у него в чемодане…»
Мой приятель заканчивает эту историю так: спустя некоторое время я располагал точной информацией, ЧТО поэт увозил в этом « подозрительном чемодане»: водку для американского «коллеги» – поэта У. Х. Одена, пишущую машинку и томик стихов Джона Донна. Но, даже несмотря на то, что по счастливой случайности, еще до перестройки, в Италии, где был на гастролях, я познакомился с Бродским,– так и не узнал, где же Бродский взял вельветовый пиджак. Ужасно подмывало спросить, но я, конечно, не решился…
Эталон Бродского
Лев Левшин, инженер
Мне не нравится Бродский – поэт. Хотя масштаб дарования – колоссальный. Но Бродский довольно странно его эксплуатировал: как натренированный, с какими-то нечеловеческими данными эквилибрист слов – посмотрите, я так могу, и этак. И сам собой любуется. Мне эти эксперименты ради экспериментов кажутся каким-то опытом из химии над совершенно другой – языковой – субстанцией. Чего стоит только его т. н. «обновление языка» в духе футуристов, например, «игры» со строфикой и «наборной графикой» (когда обыгрывается «внешний вид» напечатанного текста и вызванные им ассоциации): в стихотворении 1967-го года «Фонтан» благодаря строфике и распределению слов по пространству страницы напечатанный текст напоминает очертаниями многоярусный парковый фонтан. И что?!
Но… Его эссе, сама его жизнь вызывает у меня священный трепет. Как заметила О. Седакова – философ, большой русский поэт: «Бродский с самого начала взялся за трудные вещи. Он принял словесность как служение – а это совсем другое дело, чем «самовыражение», охота за «удачами», более или менее регулярное производство текстов и т.п.»
Бродский, без сомнения, актуален, как всегда актуален большой поэт, и это не зависит от юбилейных торжеств. Для меня и для многих, я думаю, он показал пример, как, не ввязываясь в борьбу со строем, сохранять достоинство, не поступаться своими способностями и принципами.
Талантливых людей немало, но чтобы получить и сохранить результат работы, нужен характер. Бродский был и одаренным, и умел защищать свои взгляды и способности. У него было много возможностей печататься. Но с купюрами. Он этого не хотел, сразу обострял отношения. Многим эта реакция казалась странной: человек хочет тебе помочь, а ты его отправляешь «куда подальше». Что помогло ему выжить и не получать дивидендов со своего диссидентства – сила воли или размер таланта?.. Но факт остается фактом: Бродский никогда не поступался своими принципами.
Не он один так жил, конечно. Просто в силу темперамента, таланта, масштаба личности Бродский является эталоном для литераторов и не только литераторов в этом смысле. Дело не в режиме – наверх всегда всем хочется забраться: каждый поэт мечтает, чтобы его услышали. Главное при этом – не изменить своим ценностям.
Это не каждому дано, точнее, почти никто их не отстаивает, да и многие ли имеют и дорожат. На меня произвело сильное впечатление его эссе «Меньше единицы», там есть отрывок будто про меня – о том, как сложно в школе подростку, но я дожевал школьную тягомотину, а Бродский своим юношеским достоинством не поступился: «Помню, когда я бросил школу в возрасте 15 лет, это было не столько сознательным решением, сколько инстинктивной реакцией. Я просто не мог терпеть некоторые лица в классе – и некоторых однокашников, и, главное, учителей. И вот однажды зимним утром, без всякой видимой причины, я встал среди урока и мелодраматически удалился, ясно сознавая, что больше сюда не вернусь. Из чувств, обуревавших меня в ту минуту, помню только отвращение к себе за то, что я так молод и столькие могут мной помыкать. Кроме того, было смутное, но радостное ощущение побега, солнечной улицы без конца».
Его у нас неизменно причисляли к диссидентам, но вот у Довлатова позиция Бродского сформулирована точнее: «Разумеется, он не был советским человеком. Любопытно, что и антисоветским не был. Он был где-то вне… В нем поражало глубокое отсутствие интереса к советским делам. Совершенное в этом плане невежество. Например, он был уверен, что Котовский – жив. И даже занимает какой-то пост. Убежден был, что политбюро состоит из трех человек (как в сказке). На работе он писал стихи (пока его не увольняли). С начальником отдела кадров мог заговорить от Пастернаке… При этом Бродский вовсе не казался отрешенным человеком. Не выглядел слишком богомольным. Дружил с уголовниками (видимо, его привлекали нестандартные фигуры). Охотно выпивал. Мог в случае необходимости дать по физиономии. Я хорошо помню всеобщие рыдания, когда умер Сталин. Юноша Бродский вряд ли оплакивал генсека. И даже не потому, что слышал о его злодеяниях. Сталин был для него абсолютно посторонней личностью. Гораздо более посторонней, чем Нострадамус или Фламмарион… Бродского волновали глубокие истины. Понятие души в его литературном и жизненном обиходе было решающим, центральным. Будни нашего государства воспринимались им как умирание покинутого душой тела. Или – как апатия сонного мира, где бодрствует только поэзия.
Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа. Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании. Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский – жив. И что «Коминтерн» – название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал:
– Кто это? Похож на Уильям Блейка...
Своим поведением Бродский нарушал какую-то чрезвычайно важную установку. И его сослали в Архангельскую губернию. Советская власть – обидчивая дама. Худо тому, кто её оскорбляет. Но гораздо хуже тому, кто её игнорирует».
Я долго не мог понять: на кой Бродский перед отъездом – откровенной высылкой, чтобы не раздражать лишний раз мировую культурную общественность – написал письмо Брежневу?!
Потом понял. Бродский «играл» не по правилам – просто до конца верил в силу языка и влияние, что он оказывает на разум, пусть даже и генсека. Верил, наверное, что Брежнев адресованную ему корреспонденцию даже читает и вежливо отвечает на письма, например, поэтов:
«Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому. Я хочу просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Хотя бы в качестве переводчика – в том качестве, в котором я до сих пор и выступал. Смею думать, что работа моя была хорошей работой, и я мог бы и дальше приносить пользу. В конце концов, сто лет назад такое практиковалось. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота – доброта. От зла, от гнева, от ненависти – пусть именуемых праведными – никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. Я надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось. Но скажу Вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится».
Мой друг – большой поклонник Бродского (и личности, и поэта) уже довольно давно с огромным трудом приобрел как символ советского абсурда фильм «Поезд в далекий август». Там в роли секретаря горкома партии – поэт Иосиф Бродский, вынужденный после тюрьмы заниматься всяким поденным идиотизмом, ибо был абсолютно неиздаваем.
Так вот что я вам скажу – если бы в моем НИИ за те тридцать лет и три советских года, что я там работал, был бы хоть один парторг с таким выражением лица и библейским взглядом – я бы вступил в партию…
Бродский на «каждый день»
Нина Келдыш, физик
С поэзией Бродского меня – москвичку познакомила довольно давняя приятельница – петербургский преподаватель географии, непременно «разбавляющая» свои суховатые академические повествования о странах и континентах цитатами из произведений поэта. Это, например, – об эклектичной природе турецкой государственности:
«Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие, – места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно» (эссе «Путешествие в Стамбул»).
А это – о метафизическом «исцелении» Венецией, в чьей северной версии – Петербурге – поэт сумел дожить почти до возраста Христа, «переварив» два принудительных лечения в психушке, суд, ссылку, тотальную неприемлемость своей поэзии для режимного объекта, носившего тогда имя СССР: «Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро,– ты понимаешь, что не все кончено» (автобиографическое эссе «Набережная Неисцелимых» (Fondamenta degli incurabili).
И познакомились-то мы «благодаря» Бродскому – на стажировке в Штатах, буквально на улице Нью-Йорка: Вера Владимировна устроила своим друзьям прогулку по Большому яблоку Бродского, с упоением жестикулируя по всем сторонам Нового света:
Живу на Бруклинских Высотах.
Заслуживают двух-трех фраз..
Застроены в Девятисотых
и, в общем, не терзают глаз.
Выходишь из дому и видишь
известный мост невдалеке.
Манхаттан – подлинный град Китеж –
с утра купается в реке.
Вид, извини за просторечье,
на город как в Замоскворечьи
от Балчуга. Но без мощей
и без рубиновых вещей.
Вдобавок – близость океана
ноздрею ловишь за углом.
… дивясь Чувихе с Помелом….
И я стала читать и влюбилась в поэзию Бродского, как до этого – в тексты Цветаевой, Элюара, да много еще кого… И, может, не последнюю роль здесь сыграла история его жизни, про нее в своей «Речи без повода» Довлатов написал: «Кто из нас может похвастать самостоятельной духовной биографией? ( А ведь цена любой другой биографии – копейка). Среди моих знакомых чуть ли не единственный – Бродский. Судьба которого уникальнее его поэзии». И еще мне – убежденной НЕсталинистке – уж очень по сердцу пришлись довольно подробно изложенные в беседе с Соломоном Волковым «взгляды» поэта на эту личность: например, его нетривиальное объяснение природы «пылких чувств» к тирану левых интеллектуалов – Бродский не без юмора трактует их как латентную гомосексуальность.
Для меня Бродский и его тексты в жизни – как Христос и Библия. Такая вот альтернатива традиционной религиозности. Буквально присутствуют в повседневности, а сама его личность является безусловным нравственным авторитетом. Плюс – наслаждение от всех «частей речи», что он так изобретательно и блистательно использует в своих романсах, пьесах, стихотворениях и эссе.
Я даже стала гордиться, что меня довольно часто принимают за еврейку, хотя я чуть-чуть украинка, на пару капель – грузинка, немножко австриячка, а по большей-то части «русопятая». Как мудро заметил Питер Устинов (его тоже из-за неких черт характера считали евреем): «Евреи внесли в развитие человечества вклад, непропорционально великий, по сравнению с их численностью: они не только дали миру вождей такого масштаба, как Иисус Христос и Карл Маркс, но и позволили себе роскошь не последовать ни за тем, ни за другим…»
К этому списку, я, как физик, сначала добавила Льва Ландау, а позже – Иосифа Бродского, научившего меня довольно трудной вещи: гордиться собой такой, какая я есть, то есть принадлежностью к человечеству вообще, а не какому-нибудь его этническому или социальному, профессиональному и прочему подвиду.
Новости «Новый Регион – Челябинск» в Facebook*, Одноклассниках и в контакте
Так вот о Бродском в моей жизни – не по юбилейным поводам, разумеется. Говорят, он слишком глубок, сложен, метафизичен. Не берусь судить о филологических аспектах. Но для меня и моего поколения – тех, кто ровесники его старших детей, вся поэзия Бродского – и ранняя, и последняя, и проза – это, как ни банально звучит, собственный опыт, опыт отдельной частной жизни, который без образов и смысловых лабиринтов поэта остался бы невыраженным, не нашедшим формы, не вошедшим в искусство и в историю. Бродский пишет именно о том, что я думаю и чувствую.
Себя и близких с утра, испытывая постоянный дефицит бодрости, я иногда «бужу» строками Бродского, написанными для самых маленьких из «Чистого утра»:
Умываются коты.
Чистят мордочки кроты.
Умывается лиса.
Отражаются леса.
Чистит крылья майский жук.
Умывается паук/(хоть он мал и невесом). Принимает ванну сом. Совы моются в ночи. А вороны и грачи чистят перья поутру. Чайки сохнут на ветру. Моет звёзды ночь сама на рассвете. А зима умывается в весне. Речки моются во сне. Словно пена, наяву тучки моют синеву. День встаёт во всей красе. Нужно мыться – знают все. Все об этом помнят, даже стенки комнат в чистоте, в порядке, как листы тетрадки. Только Маша-плакса между них, как клякса.
Или из «Обещания путешественника»– отзвуков гастрономической истории голодного детства «шестидесятников» – пап и мам нашего поколения «сорокопяток +»:
Я сегодня уеду далеко-далеко, в те края, где к обеду подают молоко.
Я пошлю вам с дороги телеграмму в эфир, в ней – инжир и миноги, и на утро кефир.
Я пошлю вам открытку из далекой страны: шоколадную плитку и кусок ветчины.
Я пошлю вам оттуда заказное письмо в виде круглого блюда и на нем – эскимо.
Я пошлю вам посылку, я отправлю вам груз: лимонада бутылку, колбасы и арбуз,
и халвы – до отвала – и оладьи с огня.
Только вы, для начала, накормите меня.
А чтобы не сойти с ума или не изойти желчью от реакции на окружающий социальный или политический, или иного рода абсурд, многие из моих знакомых находят поддержку в блюзовой тоске чисто сформулированной мысли и ощущений Бродского:
– Распалась крупная держава.
Остались просто города
и села. Слева или справа –
лишь долгота да широта.
Что, может, к лучшему. От части
рассудку менее вреда
нежли от целого, из пасти
которого бежать – куда?
– Когда так много позади
всего, в особенности – горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря.
– Людей теперь везде избыток.
Их больше, чем у Бога дней.
В лицо запоминать, убитых
оплакивать – теперь трудней.
– Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники – ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
– Плывет в тоске необъяснимой пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку с особняками…
-Лицом поворотясь к окну,
ещё ты пьёшь глотками тёплый воздух,
а я опять задумчиво бреду
с допроса на допрос по коридору.
В ту дальнюю страну, где больше нет
ни января, ни февраля, ни марта
-Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
– Как нас учат книги, друзья, эпоха:
завтра не может быть так же плохо…
Когда же варвары придут?!
Игорь Седов, учитель
Вы спросили про «моего» Бродского…
Для меня его поэтическая, философская тоска подобно омуту. Эта печаль Б о бесконечно и безмерно увеличивающемся количестве людских толп – ужасающий количественный апокалипсис, при котором качество (культуры, прежде всего) просто теряет смысл, меня угнетает.
А вот «открытие» Бродским – для меня лично – чудесных «импортных» поэтов – таких же, как и он, романтиков- философов, к слову, пожалуй, и стало самым важным в его творчестве.
И первое среди этих открытий, я, увы, банален, – Константинос Кавафис, грек из Александрии, – просто чудо, что за мастер «стихоплетства» начала ХХ-го века. Его же «Варвары» – ну, это просто первое и последнее стихотворение (в плане почти метафизическом), которое не зря сводит нас с ума. Мы (как и Бродский, к слову) начинали жить в стране, куда варвары уже давно пришли ( у Бродского по этому поводу был и личный опыт, о коем он пишет в эссе «Полторы комнаты»: они с родителями жили на Литейном в доме Мурузи в бывшей квартире Гиппиус- Мережковского, и по этому поводу он и называет Зинаиду Николавну- «зинкой» – все , варвары уже пришли) и издали законы, устроив по ним и свою малопривлекательную жизнь, и уходить не желают – вросли корнями…
А узнал я о Кавафисе – человеке с почти бессобытийной 70- летней жизнью на задворках колонии Британской империи и поэте (писавшему по паре стихотворений в год!) со всемирной славой, что к нему пришла много раньше (как и к Бродскому), чем на родине, – из эссе Бродского «На стороне Кавафиса», написанном как рецензия на одну из книг об этом греческом поэте.
То, что Бродский был увлечен Кавафисом, – на мой взгляд – вполне естественно: ему не могли не прийтись «ко двору» кавафисовские скептицизм и трагическая ирония.
А стихотворение «В ожидании варваров» (1904) – едва ли не самое знаменитое у Кавафиса. Нобелевский лауреат (2003) Дж. Кутзее даже назвал так один из своих романов. И не просто назвал, но и использовал как художественный прием своего стиля мрачный и саркастический кавафисовский символизм. Бродский редактировал один из многих переводов этого потрясающего стихотворения, сделанного его другом – ленинградским эллинистом, переводчиком Геннадием Шмаковым. Думаю, что если исходить из формулы самого Бродского: « каждое стихотворении в переводе что- то теряет… но что-то и приобретает», то в этой версии, переведенной двумя размерами – как и написан оригинал – как греческая трагедия, где в диалоге – две партии, два полухория – есть и частица мировосприятия самого Бродского.
Ну, а распад византийской империи, варвары, император, сенат и прочие ситуации и смыслы в стихотворении, что так пленило Бродского для нас – то (оглянитесь вокруг) не менее актуальны, чем, скажем, 30 лет назад, когда с античным трагизмом рассыпался СССР…
Когда Бродский умер, над ним, если помните, не произносили речей, читали стихи – его и те, что он любил. Одним из текстов был вот этот канонический, не разрушающий оригинал, перевод Шмакова под редакцией Бродского:
В ожидании варваров
– Чего мы ждем, собравшись здесь на площади?
– Сегодня в город прибывают варвары.
– Почто бездействует Сенат? Почто сенаторы
сидят, не заняты законодательством?
– Сегодня в город прибывают варвары.
К чему теперь Сенат с его законами?
Вот варвары придут и издадут законы.
– Зачем так рано Император поднялся?
Зачем уселся он у городских ворот на троне
при всех регалиях и в золотой короне?
– Сегодня в город прибывают варвары,
и Император ждет их предводителя,
чтоб свиток поднести ему пергаментный,
в котором загодя начертаны
торжественные звания и титулы.
– Почто с ним оба консула и преторы
с утра в расшитых серебром багряных тогах?
Зачем на них браслеты с аметистами,
сверкающие перстни с изумрудами?
Зачем в руках их жезлы, что украшены
серебряной и золотой чеканкой?
– Затем, что варвары сегодня ожидаются,
а драгоценности пленяют варваров.
– Почто нигде не видно наших риторов,
обычного не слышно красноречия?
– Затем, что варвары должны прибыть сегодня,
а красноречье утомляет варваров.
– Чем объяснить внезапное смятение
и лиц растерянность? И то, что улицы
и площади внезапно обезлюдели,
что населенье по домам попряталось?
– Тем, что смеркается уже, а варвары
не прибыли, и что с границы вестники
сообщают: больше нет на свете варваров.
– Но как нам быть, как жить теперь без варваров?
Они казались нам подобьем выхода.
Два иноземных близнеца русской поэзии как символ всемирного идеализма, здравомыслия и отечественной «неисцелимости».
Вера Владимирова, филолог
Так уж случилось, что два реформатора русского стихосложения – Бродский и Пушкин – родились под одной звездой, точнее, созвездием – Близнецы ( их дни рождения- 24 мая и 6 июня разделяют неполные полмесяца), оба были не вполне русскими, так сказать, по крови, оба, составив всемирную славу русской поэзии, терпеть не могли окружавшие их «отечественные реалии»: всей своей нервной и дерзкой натурой презирали царившее в империи (неважно, феодальной, социалистической) невежество и рабство во всех их гнусных формах и проявлениях. И оба долгое время (Пушкин – никогда) не могли ненавистную им родину покинуть. В дневниках Бродского есть запись: «Я уже долго думал насчет выхода за красную черту. В моей рыжей голове созревают конструктивные мысли». Одной из этих мыслей, как известно, стал их план с приятелем – бывшим летчиком Шахматовым – угнать «на Запад» самолет.
А вот скорбный вопрос Пушкина в письме к Плетневу в первой половине декабря 1825 года: «Что мне в России делать?».
Или в письме к П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 года: «Ты, который не
на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне
свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда
воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские
журналы или Парижские театры..., то мое глухое Михайловское наводит
на меня тоску и бешенство». В этом же письме родная страна для него –
«проклятая Россия».
В том же мае он пишет жене из Москвы: «Брюлов сейчас от меня едет в Петербург скрипя сердце; боится климата и неволи... Чорт загадал
меня родиться в России и душою и талантом!»
Этот парадокс – любовь к русскому языку, талант и трудолюбие, позволившие создать шедевры виртуозного стихосложения, сострадание и внимание к ближним и неприятие «пакостного» устройства родины, постоянный порыв к бегству – парадокс лишь на первый взгляд. На второй становится понятно, что в литературе, равно, как и во многих других интеллектуальных и художественных сферах, «прорыв» совершают не узколобые «чего изволите», а индивидуальности в чистом виде, живущие, если она их не устраивает, вне страны, режима, часто – повседневных реалий. В данном случае, они обитали в литературе.
Чрезвычайно любопытную характеристику пушкинского гения полсотни
лет тому назад дал французский критик М. де Вогюе в своей книге о
русском романе. В главе, посвященной русскому романтизму и пушкинской поэзии М. де Вогюе пишет: «Надо признать, что творчество Пушкина, взятое в целом, не обнаруживает никаких этнических черт. Это – романтик, проникнутый духом, воодушевлявшим в то же самое время его собратьев в Германии, Англии и Франции; он выражает всеобщие чувства и влагает их в русские темы; но национальную жизнь он созерцает извне, как и все из его мира, глазами художника, свободного от всякого влияния расы.
...Разве это значит умалить Пушкина, похитив его у расы для того,
чтобы отдать человечеству? Я этого не думаю.
...Случайность, заставившая его родиться в России, могла бросить
его в любую другую страну; его творчество от этого нисколько бы не
изменилось, оно бы осталось тем, что оно есть, простым и верным
зеркалом, в котором отражаются все человеческие чувства под одеждой, принятой около 1830 года образованным обществом Европы. Эти же стихи, воспевающие русскую природу, русскую любовь, русский патриотизм, если в них изменить некоторые слова, будут воспевать те же предметы для англичанина, француза или итальянца.
...Если прекрасно быть сыном Рюрика, то еще более прекрасно быть
сыном Адама; и если, как это иные думают, является большей заслугой
быть понимаемым только в Москве, то, может быть, еще большая
заслуга, заставлять думать, плакать и улыбаться повсюду, где дышит
человек; и Пушкину это удалось».
Пушкин родился и жил в эпоху величайших социальных, политических, культурных сдвигов и потрясений. Великая французская революция повлияла на лучшие умы многих стран и тем самым как бы связала всю Европу в единое целое. В 1836 г. Пушкин писал:
Припомните, о други...
Чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы,
И высились, и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.
Или в 1830 г. в послании «К вельможе»:
Все изменилося. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы
Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,
Превратности судеб разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище.
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Вот в этой «всемирности» диапазона чувств и мысли – Бродский прямо таки « однояйцевый» духовный близнец Пушкина: в его поэтическом мире прекрасно себя чувствуют Мария Стюарт с Босуэллом, римские императоры, библейские персонажи, друзья детства и ленинградские коллеги, Маркс и Христос, даже есть Билл Клинтон с Борисом Ельциным…
Возможно именно потому, что Пушкин – первый и русский поэт – европеец, с появлением произведений которого русская культура стала одним из аспектов культуры европейской с ее сложными и глубокими противоречиями, Бродский, опасавшийся быть на кого-нибудь похожим (хотя и отождествлял себя в начале больше с поэтами начала XIX века, нежели с представителями Серебряного века), раствориться в чужих смыслах и интонациях, тем не менее в «Стансах городу» (1962) соотносит свою судьбу с судьбой Лермонтова, а позднее демонстративно предпочитает лирику Баратынского, Батюшкова и Вяземского пушкинским традициям. В поэме 1961-го года «Шествие» пушкинские мотивы поданы сознательно отчужденно, отстраненно, и помещенные автором в чужеродный контекст, они начинают звучать откровенно иронично. Творческие предпочтения Бродского были обусловлены не только желанием избегать банальности. Некоторые критики полагают, что аристократичная уравновешенность «просветленной» пушкинской музы была менее близка Бродскому, чем традиция русской философской поэзии.
И тем не менее Бродский, чьими и университетами, и « единственной реальностью» стали книги, осуществил в своем творчестве и синтез преемственности, изучив опыт не только Пушкина, но и его предшественников, и, безусловно стал новатором в поэтическом языке – не только в плане метафор, переплетения многих лексических пластов – от технических, научных терминов и вульгаризмов до «высоких» слов, но и благодаря удачному и уникальному опыту приобщения русского слова к доселе чуждому ему опыту барочной европейской поэзии «метафизической школы».
Да, вот еще: как пушкинские поэтические показания о жизни начала прошлого века могут быть использованы для характеристики европейской жизни (очень остроумно и
удачно, например, использовал «Евгения Онегина» немецкий эссеист, изучавший «общественность Западной Европы» начала прошлого века Глейхен – Руссвурм, целыми страницами цитируя в своей книге пушкинский роман в стихах для характеристики жизни верхних слоев общества Парижа, Лондона, Вены начала XIX века), так и поэзия Бродского становится «всемирной энциклопедией» интеллектуальной (но не только) жизни поколения второй половины века ХХ-го. Недаром один из критиков назвал Бродского «Данте нашего времени».
В плане европейском Пушкин – первый великий европейский поэт
русской нации, на новом языке, в новых образах и звуках отразивший
новый российский участок европейской действительности своей эпохи.
Бродский сделал это на совершенно ином поэтическом уровне со своей эпохой, став прижизненным классиком. И, кстати, как Данте Бродский до смерти не пожелал вернуться в родной город… Пушкин же, напротив, не сумев его покинуть, в нем и погиб…
У Иосифа Бродского есть эссе «Набережная неисцелимых», написанное по заказу Комитета по охране и спасению Венеции.
Zattere Ai Gesuati – раньше это был венецианский порт, где разгружали товар. Вдоль Дзаттере стояли склады, наполненные солью. Сегодня здесь – наплывные кафе и рестораны. По преданию, на этой набережной оставляли зараженных чумой или сифилисом – неизлечимо больных. Поэтому несколько веков назад это место и назвали Набережной неисцелимых. Иногда, переживая за все гадости, происходящие в нашей стране, я представляю всю РФ и нас в ней такой вот обителью неисцелимых, но утешаю себя тем, что мечтавший вырваться из родной страны поэт, так и не вернувшийся назад, написал: за Россию не нужно особенно переживать, ее спасут территория и язык.
Челябинск – Москва – Санкт-Петербург. Другие новости 24.05.15
300 челябинцев: суровые горожане выходят погулять в 7:30 утра. И разбиваются на пары. / Грозовое воскресенье: на Южный Урал надвигается шторм. / Строим, клеим, мастерим – в Челябинске стартовали современные выставочные проекты. Читать дальше
* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2015, «Новый Регион – Челябинск»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».