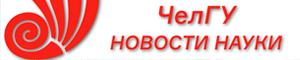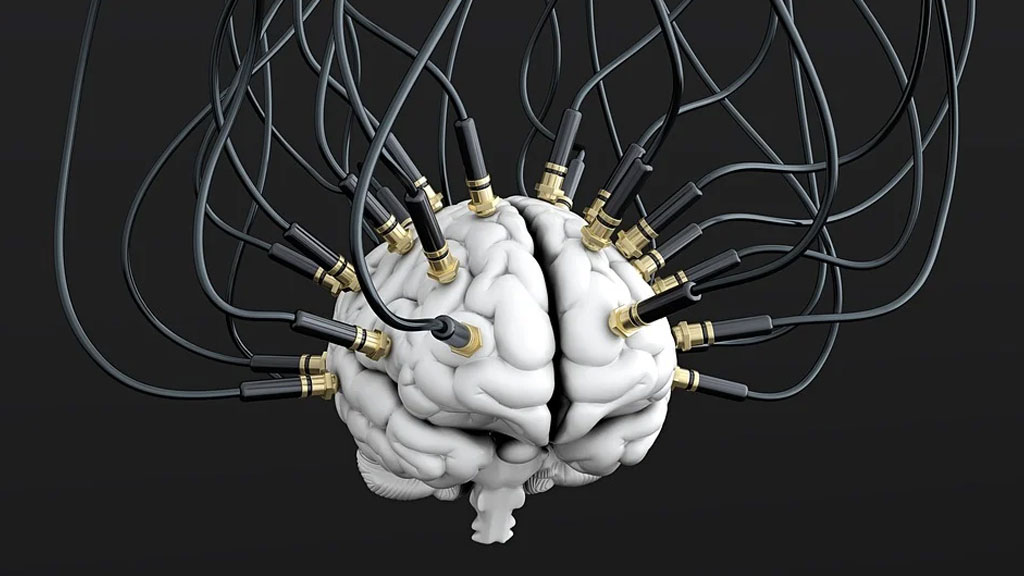Следующий в жертвенном (хотелось бы знать – на какой алтарь?!) поэтическом списке августа – Николай Степанович Гумилев, из «панциря» которого вышли советский «граф» – прозаик (стихи Алексея Николаевича были чахлыми и некрасивыми), поэты Николай Тихонов и Константин Симонов, в какой-то части – Берберова с Одоевцевой, Корней Чуковский, да много кто еще. До Гумилева у них, правда, тоже был предшественник – но такого масштаба, что напишем его сияющее имя шёпотом – Лермонтов. Симоновское «Жди меня» без Гумилева в русской поэзии не появилось бы никогда. Поверьте филологу на слово – никогда. Симонов был так увлечен Гумилевым, что постоянно предпринимал попытки хотя бы частично «реабилитировать» поэта – ну, хоть что-то опубликовать. У него это было запросто: одной рукой закапывать живых Ахматову с Зощенко, а второй полувыкапывать из могилы Гумилева.
Алексей Николаевич Толстой был так очарован личностью и творчеством Гумилева, что даже в опасные для себя 20-е написал о Гумилеве пронзительный очерк, в котором особо отметил, что тот погиб за благое дело. Если б этот душевный всплеск напечатали – как пить дать, на плаху отправили бы автора.
Вообще кем-чем, но жертвой Гумилева представить особенно трудно. Этот Таганцевский заговор, из-за причастности к коему поэт и офицер был арестован и расстрелян, – несомненно, одна из ужасных трагедий в литературе ХХ-го века.
Гумилев – это такой Миклухо-Маклай искусства. Авантюрист в стиле денди. Герой с глазами и ушами ребенка…
Гумилев – по всем параметрам – фигура, оппонирующая Блоку. Сан Саныч был красив как Аполлон, написал свое первое стихотворение в 5 лет, и это было прелестно. И дальше – волшебным образом – из разбросанных всюду символов, звуков, спиритических и оккультных флюидов времени – этот гений сплетал свои пьянящие произведения. Как? – да нобелевскую премию за раскрытие блоковской «методы».
Николай Степанович – мужчина с внешностью «египетского письмоводителя» или «желтолицевого монгола» был теоретиком с весьма скромным от природы поэтическим талантом. И как честный художник пытался следовать своим принципам и декларациям. Черт его знает, не об этих ли особенностях разводчика акмеизма – этого причудливой орхидеи Серебряного века – Блок, в общем-то, симпатизировавший Гумилеву, написал коллеге на подаренной книге: « В подарок Гумилеву, чьи стихи я читаю не только днем, когда не понимаю, но и ночью, когда понимаю», а позже сказал другому собрату по цеху: «Странный поэт Гумилев. Все люди ездят во Францию, а он в Африку. Все ходят в шляпе, а он в цилиндре. Ну, и стихи такие. В цилиндре».
Ну, в цилиндре или серой шляпе а ля Уайльд (об увлечении Гумилева ирландским декадентом я, кажется, упоминала в тексте об Оскаре Уайльде), но этот странный перфекционист жил так, как хотел, получая от занятий поэзией, путешествий и прочего (за исключением войны – это он назвал первую Мировую самой кровавой и гадкой чайной человечества) огромное удовольствие.
Да и мы, читая пропитанные радостью строки Гумилевских текстов, испытываем то же самое счастье, что и современная поэту публика:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
От поэзии Гумилева веет некой спокойной уверенностью, что словами мир легко «перетворить», исправив Божьи огрехи. Мировоззрение этого эрудита (правда, писавшего с дикими грамматическими ошибками, которые, как полагал сам НГ, лишь свидетельствовали о его гениальности) – без противоречий и зависимости от настроения и обстоятельств состояло в том, что поэт – наместник Бога на Земле (не зря же очевидцы с разной интонацией поминают старомодную привычку поэта креститься при виде каждой церкви). Ну, то есть именно поэт, чья миссия заключается в облагораживании мира словом, и есть настоящий царь. И потому дух – реальность, а бренное тело – лишь подчиненный духу ретранслятор слова… Так что все телесные испытания нужно преодолеть, дабы закалить душу. Гумилев, как заклинание повторяет формулу Ницше: себя – человека – должно преодолеть. Но и от Уайльда тут немало – скучно довольствоваться даденным, сделай себя совершеннее, красивее…
Не зря же в черновой незаконченной повести Гумилева «Веселые братья» довольно симпатичный герой Мезенцев выходит в путь с сектантами – захватив с собой все «необходимое»: сотню папирос и… томик Ницше.
Во всяком случае, свои телесные немощи – от рождения поэт был болезненным и «немогучим», Гумилев преодолел, а вот сделал он это, следуя в русле перманентного закаливания по совету Ницше или своему добровольному решению, – вопрос непростой. Ибо и в отношении духа этот человек невероятно поднимал себе планку. Одним из фетишей Гумилева было научиться останавливать дождь. Есть у него предсмертное стихотворение «Память», где он рассказывает о разных своих ипостасях, и колдовском ребенке в первую очередь:
Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.
Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.
Как-то раз у Гумилева действительно получилось приказать дождю перестать. С тех пор это стало его идеей фикс.
Кстати, именно этой своей одержимостью Гумилев поразил одного из стОящих британских писателей – Г. К. Честертона. И, по большому счету, этим повлиял на английскую прозу. В автобиографии Честертона есть рассказ о встрече с русским поэтом, уверявшем, что миром должны править поэты, ибо из тысяч негармоничных словосочетаний поэт выбирает красивое, и из тысячи комбинаций по преобразованию общества именно поэт выберет достойную и правильную. Честертон долго об этом размышлял. Правда, удивительно, что не увидел связи между этим императивом Гумилева и теориями так нелюбимого им (Честертоном) Уайльда.
А второй поразившей английского священника – поэта историей была та самая «пластинка» об остановленном в детстве дожде. В один из своих рассказов, написанных уже после смерти Гумилева, Честертон вводит персонажа, пытающегося приказывать дождю. Герой этот болезненно одержим и ницшеанскими – ненавистными Честертону – идеями, смотрит на две дождевые капли, бегущие по стеклу, и пытается одной из них приказать бежать быстрее. Тогда положительный герой – католический священник- сыщик просто пригвождает его широкими вилами (не навредив!) к дереву и говорит: что ты сделаешь теперь? Попробуй силой воли вытолкнуть эти вилы. И этим препятствием как бы возвращает безумцу здравый рассудок.
Впрочем, ницшеанская фраза «Человек есть то, что должно быть преодолено» – это же не фашизм. Это вполне справедливо, вспомним опять же Уайльда:
иметь дело с человеком, какой он есть, скучно. Человек – это то, что он из себя сделал.
Гумилеву, вслед за Уайльдом, удалось вырастить из себя обаятельного человека. А уж от поэзии Гумилева всегда идут теплые волны. При том, что пишет он о вещах малосимпатичных – поэтизирует войну, трактует любовь как битву с женщиной, в которой мужчина просто обязан победить. Разумеется, это наиболее нелюбимый феминистками поэт, зато все доморощенные мачо его обожают. Я, в свое время, по глупости, из-за таких вот чокнутых апологетов и отрицателей Гумилева, чуть было его не «пропустила». К счастью, вовремя отделила мифы, и поняла, что это лишь лирические идеалы: активному воину, притащившему из Африки все возможные чучела – пантеры, льва, крокодила, разве, что слона не хватает, – покорившему все страны и народы, не удалось себе подчинить вот ту худую и бледную женщину, которой ничего подобного не нужно:
Наплывала тень... Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один,
Неподвижный взор устремляя вдаль,
Горько говоря про свою печаль:
«Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;
Цепи грозных гор, лес, а иногда
Странные вдали чьи-то города,
И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.
Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.
Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.
Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река.
И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.
Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна;
Я узнал, узнал, что такое страх,
Погребенный здесь, в четырех стенах;
Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны..."
И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.
А на самом-то деле все это артистизм, роли, что льстят и женщинам, и мужчинам, и в одной из которых умная жена Ахматова подыгрывала своему воину-поэту мужу. В реальной жизни все менее батально: мужчины никакие не поработители и жены их прекрасно понимают. А этот пресловутый камин и Ахматова, лобзающая его ноги, Гумилеву «и по суду» были не нужны – недаром же из семейного гнезда в 1913-м он отправился в очередную экспедицию с температурой аж 38 – только бы не сидеть дома. Куда угодно, лишь бы прочь от удушающих семейных кальсонов… Ехать, бежать, стрелять, завоевывать и познавать – только не сидеть на привязи… Он ведь такой Хемингуэй русской поэзии.
И брак и распался – ну очень молодые, не слишком щадящие друг друга люди. Вспомните себя в этом возрасте, каких только глупостей похлеще, чем эти двое, мы не наделали… При этом, чудных стихов после себя не оставили.
И вот кстати: себя – поэта Гумилев тоже творил. Это Блок извлекал свои стихи как маг- чародей из струящихся вокруг эфиров и зефиров, Ахматова «ждала, когда стихи придут» и те являлись, а Гумилев писал по «методе» и с каждым периодом все лучше. Это из его «Молитвы мастеров»:
Лишь небу ведомы пределы наших сил,
Потомством взвесится, кто сколько утаил.
Что создадим мы впредь, на это власть Господня,
Но что мы создали, то с нами посегодня.
Всем оскорбителям мы говорим привет,
Превозносителям мы отвечаем – нет!
Упреки льстивые и гул молвы хвалебный
Равно для творческой святыни непотребны.
Вам стыдно мастера дурманить беленой,
Как карфагенского слона перед войной.
Страшно даже представить, какого титана он бы из себя вырастил, доживи до возраста Микеланджело, да хотя бы лет до 76, как его вдова. Или до возраста старика Хэма, который ведь так и не повзрослел…
Может и в этом очарование его поэзии – искренность колдовского ребенка, готового сделать всё возможное и не очень, чтобы нам понравиться, соединенная с иронией над собой, да и нами:
Когда я кончу наконец
Игру в cache-cache со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.
И небо, точно бирюза,
И принц, поднявший еле-еле
Миндалевидные глаза
На взлет девических качелей.
С копьем окровавленным шах,
Стремящийся тропой неверной
На киноварных высотах
За улетающею серной.
И ни во сне, ни наяву
Невиданные туберозы,
И сладким вечером в траву
Уже наклоненные лозы.
А на обратной стороне,
Как облака Тибета чистой,
Носить отрадно будет мне
Значок великого артиста.
Благоухающий старик,
Негоциант или придворный,
Взглянув, меня полюбит вмиг
Любовью острой и упорной.
Его однообразных дней
Звездой я буду путеводной.
Вино, любовниц и друзей
Я заменю поочередно.
И вот когда я утолю,
Без упоенья, без страданья,
Старинную мечту мою –
Будить повсюду обожанье.
Конечно, на наше восприятие поэзии Гумилева неизбежно оказывает его необыкновенная биография – экспедиции в Африку, два Георгия в Первую Мировую… Я не люблю его «Записки кавалериста» (хотя не могу не признать искренность этой прозы о войне), но рассказ о том, как поэт получил свой второй Георгиевский крест – одна из самых любимых романтических историй. Ибо опять связана с преодолением – себя, не говоря уж об обстоятельствах: во время атаки застрявший в грязи Гумилев услышал крик «Братцы, помогите!» В болоте, под страшным проливным дождем увязла пулеметная команда, от которой почти никого и не осталось уже. Все бежали вперед, рванул и Гумилев, но остановился: «Не может быть, – подумал НГ, чтобы эта дрянь меня испугала». Вернулся и помог вытащить пулемет, за что Георгия и получил. Такой вот самоконтроль, такое самосознание.
О стихах Гумилева можно рассуждать еще долго и нудно, ну, или занятно – кто как сможет. Но у нас-то повод сегодня – смертельный.
Уже даже в Википедии написали, что есть несколько версий относительно Гумилева и Таганцевского заговора: поэт в заговоре участвовал – эта версия жила и умерла вместе с СССР; Гумилев не принимал участия в деятельности заговорщиков – это версия времен, условно говоря, перестройки. И самая продвинутая – современная интерпретация – никакого заговора вообще не было… Вам смешно, а поэта убили.
Думаю, на фоне подобных версий, моя будет не самой абсурдной. Заговор Таганцева, конечно, был. Но заговор в той традиции, что заложили еще декабристы: половина высшего света арестована по обвинению в из рук вон плохо подготовленном локальном ГКЧП, при этом большинство арестованных не принимало участия в главном событии, более того, не знало даже, что же за «бенц» они готовят.
Что я хочу сказать: собирались идеалисты-собеседники, мечтали и обсуждали, что и по какому сигналу в решающий момент они «начнут». В версию Одоевцевой, что Гумилев был казначеем означенного заговора, верится с трудом. Это больше похоже на некую метафору, поэтические грезы «поэтки»-ученицы НГ.
А в результате «девять граммов в сердце», в том числе и человеку, которому пафос преобразований советского времени в чем-то идеалистическом был близок: речь ведь шла, вспомните, о преобразовании мира, природы, себя…
Знаете ли вы, что после африканских экспедиций Гумилев мечтал о полярных?! И представить его в числе челюскинцев – проще простого, тем более, что страстные стихи Цветаевой об этих неугомонных людях, читаются, словно продолжение Гумилевских поэтических странствий… Правда, представить Николая Степановича в президиуме Первого и прочих съездов советских писателей не могу – полный разрыв шаблонов, как изъясняется современная молодежь.
Не погиб бы этот конквистадор в 21-м, придушили бы в 29-м, пристрелили-замучили в 37-м. Уцелел бы в экспедициях в означенные периоды – арестовали бы в 47-м.
И ничего бы не спасло, как не спасло в 21-м заступничество Горького…
Гумилев погиб молодым человеком – ему было всего 35 лет. Но будучи еще юношей, он с каким-то нездоровым любопытством относился к смерти, решив в конце концов, что она – не предел, а порог, за которым – начало новой жизни.
И, честно говоря, читая манифест-декларацию совсем еще юного поэта, я в это относительно Николая Степановича верю:
Я сегодня опять услышал,
Как тяжелый якорь ползет,
И я видел, как в море вышел
Пятипалубный пароход.
Оттого и солнце дышит,
А земля говорит, поет.
Неужель хоть одна есть крыса
В грязной кухне или червь в норе,
Хоть один беззубый, лысый
И помешанный на добре,
Что не слышит песни Улисса,
Призывающего к игре?
Ах, к игре с трезубцем Нептуна,
С косами диких нереид,
В час, когда буруны, как струны.
Звонко лопается и дрожит
Пена в них, словно груди юной,
Самой нежной из Афродит. …
Солнце духа, ах, беззакатно
Не земле его побороть,
Никогда не вернусь обратно,
Усмирю усталую плоть,
Если лето благоприятно,
Если любит меня Господь.
***
Не по залам, не по салонам
Темным платьям и пиджакам –
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.
Я люблю, как араб в пустыне
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет.
И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,
Чтоб войти не во всем открытый
Протестантский прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: Вставай!
Челябинск, Вера Владимирова
Челябинск. Другие новости 30.08.16
30 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / Взгляд через 100 лет: В Челябинске вновь открылся Музей на крыше (ФОТО). / Бывшего замначальника ГИБДД Магнитогорска будут судить за взятки на 800 тысяч рублей. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2016, РИА «Новый День»