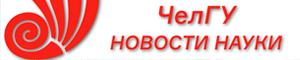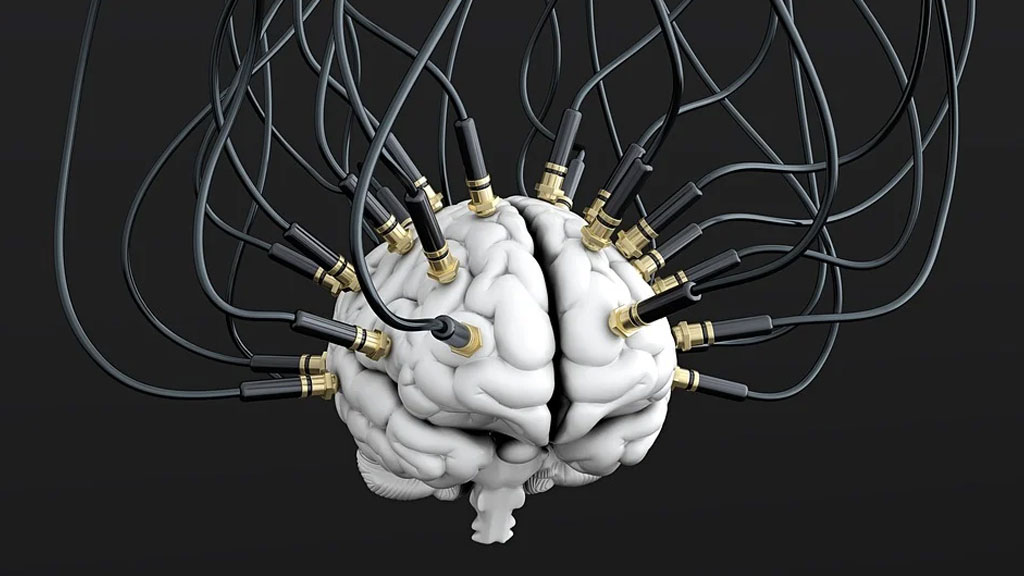Всякий раз, даже просто вставляя свои «двадцать копеек» в дискурс, как сейчас любят говорить, о Цветаевой, чувствую себя неуютно: будто бы своими несовершенными устами – руками прикасаешься к святому Граалю, в данном случае, литературы. К тому же эту культурную святыню каждый из обожателей давно приватизировал, и потому любое чужое мнение воспринимается несколько враждебно – как посягательство на личную собственность.
Вот скажи – тексты Цветаевой о некоторых безнравственных дамских поступках и ситуациях грешат против вкуса и служат оправданием женской неблаговидности, как тебя тут же, причем в определенной части справедливо, забросают камнями: вкус – это для посредственностей, гении и безвкусицу превращают в эталон: «вопль женщин всей Земли»: «Мой милый, что тебе я сделала» – это не истерика, а справедливая констатация; а «горькая» экзальтация – «Вечный искус – Окончательнее пасть…» – это не эффектная формула, как ни крути измены, а падение, оно же освобождение непостижимой женской души. Ну, у Марины Ивановны, это падение почти с небес – остальным до ее высоты подняться будет трудновато, соответственно и падение – с высоты фундамента или «полуподвала» – выглядит, как минимум, нелепым и нестерпимо пошлым.
Тут уж вопрос метафизический – отвечает ли поэт за своих поклонников (особенно, когда те читали его в изрядно кастрированном виде, а то и – всего лишь – слышали песенную интерпретацию « Под лаской плюшевого пледа») или не отвечает. Цветаева бы, наверное, с себя ответственности не снимала. А я бы поэтов от чрезмерной опеки любящих «удобство» чужих формул обывателей освободила.
Ведь с какой меркой не подойди – Марина Цветаева – великий поэт и не менее великий прозаик ушедшего века.
Мне больше всего по сердцу ее юношеский период, творчество где-то до 22 – 23 года. И – да – «Повесть о Сонечке» – «штука» о революции посильнее, чем «доктор Живаго» , сосредоточенный по воле автора вокруг трех – четырех фигур… Учитывая, что произведение написано в ужасный для поэта 1937-й – «респект и уважуха», как опять же формулирует «племя младое, незнакомое». Вторично – за «Крысолова».
Нет, я в восторге и от ее последующего творчества, вот мне весь ее «дар жемчужный» нужен, дорог, но после эмиграции, чудовищней условий которой стало лишь ее возвращение на родину, из поэзии Цветаевой постепенно уходила та чудная музыка, которую первым слышать перестал Блок.
Цветаева была мыслителем, виртуозом, жизненные силы и мастерство не покидали ее очень долго (исходя из обстоятельств). Позднее и радость, и жизнелюбие она – по ситуации – заменила сложными конструкциями, меняющими восприятие ее поэзии. А многие ее вибрации, я как та комичная советская интеллектуальная кокетка «не постигаю», но наслаждаюсь этим высоким полетом чужой изобретательной мысли однозначно.
Не зря же сама Цветаева говорила – во мне «семь поэтов». Или следы запутывала своей раненной лирической героини – единственной, как ее бессмертная душа. Даже не героини – героя. Ибо, если опять прибегнуть к музыкальным ассоциациям – душа Ахматовой будто выплыла из Шопена и Чайковского. О Цветаевском же складе уместно определение бетховенской темы: «так судьба стучится в дверь». Или как сама МЦ сказала, «душа спартанского ребенка». Но еще точнее вечно подчеркиваемое Пастернаком сравнение с великолепным чужаком – французским корсиканцем – рожденным революцией императором : «У Цветаевой круглое лицо Наполеона». А знаете ли вы, что именно Наполеона Марина Цветаева поставила в кивот?!
Можно сказать – фи, плохой вкус, полководца – пусть и рыцарственного типа, в шкафчик к иконам! Что она Толстого не читала?! Читала – не беспокойтесь. Но увидела в нем другое – великолепие и величие. Словно в зеркало глядела. Ибо поэт Цветаева – это сплошной блеск и гениальность, при этом никакого позерства, лишь благородные сомнения: «Мой бессмертный, вечный дар, слезный след жемчужный – бедный, бедный мой товар, никому не нужный…»
Помню, как моя мама плакала, когда первый раз читала публицистику Цветаевой, которую в СССР опубликовали впервые чуть ли не через 30 лет после смерти поэта, названную редакторами « Милые дети», потому что так этот текст начинается. Это советы поэта – детям: Никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из-за отсутствия ее погибает в пустыне человек. Да, но ведь я его этим не спасу! Да, но одним бессмысленным преступлением станет меньше… Если вы хотите выбросить хлеб – не выбрасывайте, если хотите положить на землю – не кладите, нищему будет неудобно взять его оттуда. А положите на забор, откуда, может быть, не так стыдно будет взять его... Если победили – стойте с опущенными газами и с протянутой к побежденному рукой... Никогда не говорите плохого о своем при чужих: о животном, о родителе – чужие уйдут, свой останется... Никогда не осуждайте своих родителей на смерть, пока вам не будет сорока, после рука не подымется… Увидев человека в смешном положении, прыгните к нему туда – смешное поделится на двоих… Если вам скажут: «Так никто не делает», – отвечайте: «А я кто?». Ведь все и есть никто…
Как просто, понятно, заботливо и благородно. Чем не библейский текст? Или целый мир, добрый и правильный, созданный в душной и нелепой эмиграции большим поэтом для самых маленьких.
Мама плакала потому что ей было ужасно жаль эту мужественную и благородную женщину, покончившую с собой в День ее рождения – 31 августа : «На твой безумный мир / Ответ один – отказ».
Бродский говорил, что Цветаева начинает с предельно высокой ноты, а потом берет выше и выше… Этому нелегко соответствовать, но как такая гордая и сильная позиция расширяет горизонты!
Ранняя Цветаева это к тому же – большой источник цвета, света, жизнерадостности и даже ликования. У ее солнечной батареи – а она еще практически гимназистка – хочется прогреть свои душевные косточки. Отхватить кусочек ее веселья и бесстрашия.
И вот революция. Ну и что? – никакого нытья по утрате всего. Остроумные проницательные тексты «Мои службы», «Грабеж». Поразительный цикл коротких очерков о Москве 19-го. Сидит женщина с двумя дочками – ангелоподобной и больной несчастной, погибшей уже в 20-м году, в голоде и холоде – пилит наследственную мебель на дрова, имеет в день пару моркошек и лепешку, при этом умудряется страдать от любви и храбро сочинять сиятельное: «Что ж, – «мы проживем и без хлеба! Недолго ведь с крыши – на небо». Фонтан жизнелюбия и счастья. И тем печальнее, что это неугасимая свеча спустя 20 лет сама себе погасила – в окружающем ее тогда воздухе совсем не осталось кислорода…
Да, до этого были скитания в духе дантевского ада «по крутым чужим лестницам» в попытке добыть «горький хлеб изгнания», и зреющее отрицание жестокого мира. И все это в стихах зафиксировано хирургически – поэтически точно, логично, с подчеркнутым смыслом. Настаивая практически на единственном: если человеку есть чем заняться, он должен заниматься собой, он должен шлифовать эту единственную душу, все остальное – отвлечение: добрые дела, сделанные в расчете на чужое мнение. И она пишет, урывая у жуткого быта часы и получасия на поэзию. После рождения в 25-м году сына МЦ создает значительнейшую поэму ушедшего века – «Крысолов».
Очень интересно, что в 20-е годы появились два русских «Крысолова»: в 22-м году «Крысолов» Грина, и тогда же, кстати, Цветаева задумывает своего крысолова. В 25-м она еще не читала гриновское произведение, но слышала о нем. Но она – и это удивительный факт, берет один и тот же общий с Грином образ. Приходят крысы. Для Грина неправедность крыс очевидна. Для Цветаевой все не однозначно. То, что крысы – это, и по ее версии, большевики, даже не обсуждается. Она об этом смело рассказывает: крысы заставляют всех присягать главглоту, у крыс странный язык, состоящий из сокращений… Кроме того, крысы все время ссылаются на какое-то странное понятие, которое в городе Гаммельне никто не может понять: то ли интервенция, то ли национал. Естественно, крысы – это Интернационал, который дорвался. Но Цветаева симпатизировала красноармейцам как романтикам. У Грина, например, или у Гейне в «серых крысах» эти твари хотят только жрать. У них есть единственное наслаждение – пожирать сало, которого очень много. У Цветаевой крысы – мечтатели. Более того, этим крысам больше всего хочется продолжать борьбу. И уводит крыс из города крысолов сказкой об Индии! Они должны пойти и эту Индию спасти. Это, конечно, отголоски того небанального времени, а конкретнее, довольно долго и активно муссируемая идея о деколонизации Индии, для зондирования коей известный троцкист Блюмкин был даже откомандирован в Гималайскую экспедицию. Более того, и пресловутый Рерих в целях, так сказать, скорейшей реализации этого бреда передавал новой власти невероятные письма от великих и невеликих махарадж с просьбой немедленно присоединить Индию – и Тибет, и Гималаи, – к России. Ну, это все та же идея, позже отраженная и сформулированная наиболее точно, как ни странно, в советской мелодраме 60-х «Дети Дон-Кихота»: «а зачем американцы угнетают негров!?» А тут интернациональная пассионарность по спасению мира уводит крыс в Индию, где они и гибнут. Что-то согласитесь есть в этом пророческое: в конце концов, ведь и большевистская власть погибла, образно говоря от идеализма… Но об этом как- нибудь в другой раз – об утопии, что губит крысу – метафоре от Марины Цветаевой.
А сегодня – о том, что погубило Наполеона Серебряного века. Идиотские версии, что Цветаева боялась старости, страдала от наследственной душевной болезни, своей смертью хотела спасти сына, – отметаем. Потому что это идиотизм. Потому что старости для нее не существовало, и влюбиться, и разлюбить она могла в любом возрасте, а уж ее «Бабушка» – это же оберег для всех моложавых потенциальных «бальзаковок» 21-го века:
Когда я буду бабушкой –
Годов через десяточек –
Причудницей, забавницей, –
Вихрь с головы до пяточек!
И внук – кудряш – Егорушка
Взревет: «Давай ружье!"
Я брошу лист и перышко –
Сокровище мое!
Мать всплачет: «Год три месяца,
А уж, гляди, как зол!"
А я скажу: «Пусть бесится!
Знать, в бабушку пошел!"
Егор, моя утробушка!
Егор, ребро от ребрышка!
Егорушка, Егорушка,
Егорий – свет – храбрец!
Когда я буду бабушкой –
Седой каргою с трубкою! –
И внучка, в полночь крадучись,
Шепнет, взметнувши юбками:
«Koгo, скажите, бабушка,
Мне взять из семерых?" –
Я опрокину лавочку,
Я закружусь, как вихрь.
Мать: «Ни стыда, ни совести!
И в гроб пойдет пляша!"
А я-то: «На здоровьице!
Знать, в бабушку пошла!"
Гораздо вероятнее, что сына она бы спасла, оставшись в живых. Душевная болезнь. Повторюсь фразой про Блока – да чтобы мне такое помешательство передалось – как абсолют хладнокровия и здравомыслия. И ее самоубийство, как мне думается, было осознанным решением: «я полтора года… ищу глазами крюк». Уже с 17 лет она понимала, что хуже смерти – унижение. И это не душевная болезнь. Это духовная стойкость.
Ее не стало, потому что случилось по Блоку: «поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем».
После того, как от поэта, который всю жизнь положил на утверждение своего достоинства, вырвали просьбу устроиться судомойкой и не удовлетворили эту просьбу, после этого никакой жизни для такого благородного создания как Марина Цветаева быть не может.
Ее свеча не могла гореть в вакууме елабужского убожества:
Веселись, душа, пей и ешь!
А настанет срок –
Положите меня промеж
Четырех дорог.
Там где во поле, во пустом
Воронье да волк,
Становись надо мной крестом,
Раздорожный столб!
Не чуралася я в ночи
Окаянных мест.
Высоко надо мной торчи,
Безымянный крест.
Не один из вас, други, мной
Был и сыт и пьян.
С головою меня укрой,
Полевой бурьян!
Не запаливайте свечу
Во церковной мгле.
Вечной памяти не хочу
На родной земле.
Знаете, иногда, и последнее время все чаще, эти строки сильно скрашивают жизнь…
И вообще, поэзия – Блока, Гумилева, Цветаевой и их замечательных товарищей, так сказать, по Серебряному цеху, – это тот самый кислород, что дает нам дышать. Спасибо, братцы, что за свои неполные полвека вы так нам надышали, что и спустя столетие – листнешь страницы, как в горах после дождя побываешь:
Август – астры,
Август – звезды,
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой – август!
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август!– Сердце!
Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных –
Август!– Месяц
Ливней звездных!
Челябинск, Вера Владимирова
Челябинск. Другие новости 31.08.16
31 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / Южноуралец выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей. / «Если кто-то кое-где у нас порой...»: южноуральская полиция бряцнула оружием (ФОТО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2016, РИА «Новый День»