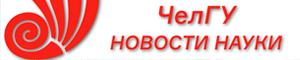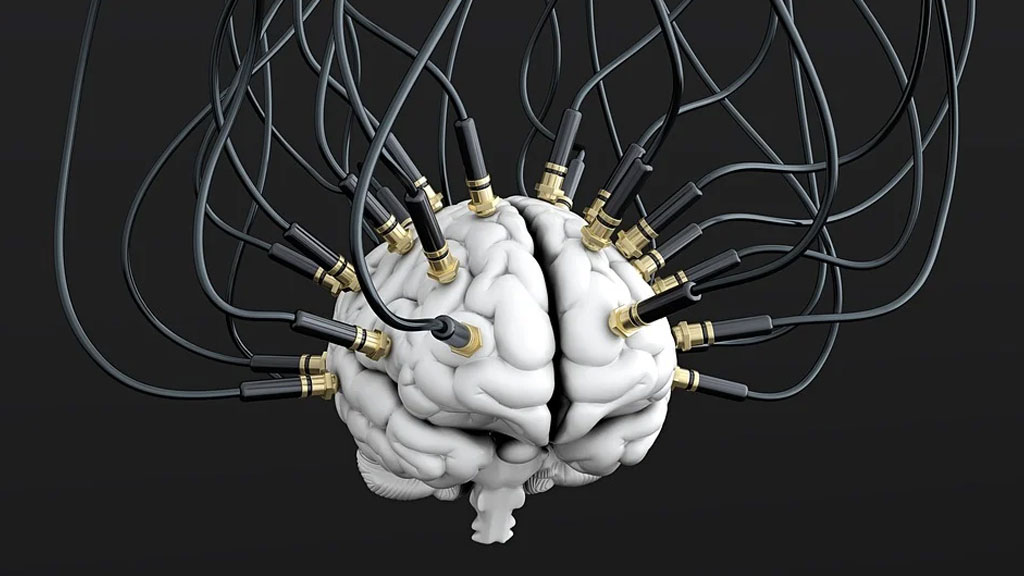130 лет назад, 4 мая (16-го по новому стилю) 1887 года, когда в каменном Петербурге зацвела немногочисленная сирень, в относительно симпатичном доме на Гороховой улице, в семье военного инженера Василия Петровича Лотарева и его супруги Натальи Степановны родился сын, названный Игорем. И вот уже век всё лиричное и романтичное человечество в середине мая отмечает День рождения этого Игоря (к своему имени он лет через двадцать добавил уточнение «Северянин») под освежающее и опьяняющее дуновение его лиры:
Ветер ворвался в окно –
Ветер весенний, Полный сирени…
Мы не видались давно, –
Ветер ворвался в окно,
Полный видений…
Скучно и в сердце темно:
Нет воскресений
Прежних мгновений…
Ветер ворвался в окно.
«Я упоен. Я вещий. Я тихий. Я греээр».
Лет десять назад во французском Лионе, где продают фиалковое мороженое, я реально слышала, как одна экзальтированная почитательница Игоря-Северянина (именно так он сам писал свой псевдоним – как расширение имени, а не замену фамилии, ибо у трувера или барда есть лишь имя!) убеждала управляющего кафе на языковой смеси французского, русского и английского, что непременно стоит подавать посетителям фиалковый ликер к такому мороженому, а еще нужно обязательно «изобрести» мороженое из сирени. Ибо об этих вкусовых эманациях уже давно написал русский поэт – просто mauvais ton , что подобных изысков до сих пор нет в гурманском лионском меню! С трудом преодолев языковой барьер, возведенный русской фанаткой И-С, галльский управляющий, наконец, уяснил претензии клиентки и не более, чем через 10 минут, ей, изумленной, из каких-то дружеских мороженщикам закромов принесли графинчик вожделенной «лилии ликёров» – «Cre`me de Violette»:
О, Лилия ликеров, – о, Cre`me de Violette!
Я выпил грез фиалок фиалковый фиал...
Пригубив этого лилового алкоголя, дама начала декламировать невероятные стихи – цветы-десерты И-С, которые понимали только русские посетители, большинство из коих, увы, впервые попали под обаяние игорь – северянинского дарования:
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударыни, судари, надо ль? не дорого можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!
Сирень – сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!
Я знаю – читала – слышала, что поэтическую феерию И-С и требовательные современники, и нынешние эстеты оценивают как вторичное, пародийное или самопародийное, но милое творчество.
Есть мнение, что оно поверхностно.
Другие полагают его пошлым и даже опасным
Блок, например, сравнивал Игоря-Северянина с малосимпатичным капитаном Лебядкиным Достоевского. Правда, потом назвал «поэтом с чистым сердцем».
Не «обожали» коллегу Цветаева, Пастернак, Ахматова, Мандельштам…
А Брюсову «младший брат» пришелся по вкусу. И Мирре Лохвицкой, и Константину Фофанову.
Известный современный «поэт и гражданин» отдает должное лишь т.н. эмигрантским стихам поэта, хвалит его автобиографические «Колокола собора чувств» и произведения, написанные в 1940-м – за год до смерти И-С, отмечает музыкальность его поэзии, но не более.
Жестче же всех «пригвоздил» собрата по перу Владимир Владимирович:
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!
Этот «отлуп», к слову, И-С получил за то, что в его книге 1918-го года нет практически ни строчки о революции…
Что вам сказать не то что бы в защиту поэта – не нуждается он в ней – а просто по поводу «претензий» и в связи с юбилеем.
Извините, буду выражаться, как «собачий» персонаж Булгакова: да не согласна я.
Хотя, думаю, точнее на все российские разборки (и внутрицеховые литературные) ответил сам поэт: « …все правы!»
Дело в том, что, на мой вкус – слух – взгляд, Игорь – Северянин – этакий Александр Грин в поэзии – ювелирно точно и чрезвычайно изящным образом отразил в своих поэзах (обожаю это его претенциозное обозначение собственных творений!) все настроения и нюансы настроений соотечественников начала 20-го века. Время было – как всегда – мерзопакостное: абсолютная монархия уже начинала смердеть своим анахронизмом. Но не без «луча света»: упадок, как благодатная почва для искусства, и демократические проблески от набиравшей соки буржуазии прорастали некой надеждой на волшебные перемены. Теперь не аристократическое происхождение и деньги, а талант и «компетенции» (выражаясь специфическим словарем нынешних правителей) могли предоставить трудящемуся индивидууму профессиональный «трон». Силой ума, а в случае с Северяниным – фантазии, можно было завоевать мир ( в случае с И-С – очаровать – околдовать).
Игорь – Северянин был необычен на русской почве. Он предлагал согражданам не поход на плаху «за свободу и счастье будущих поколений». Не громил их за аполитичность и мысли о личном «убогоньком» счастье. Он фонтанировал для них бесподобными поэтическими кружевами, уводя в параллельные красивейшие миры – где «королева играла в башне замка Шопена», где каждому был уготован уголок не хуже, чем райские каскады и сады сына Лукреции Борджиа – у моря с ажурной пеной и бирюзовыми сонатами…
Это да, открываешь томик Цветаевой – как в готический собор входишь, хочется пасть ниц и не подниматься, ибо никаких сомнений «тварь ты дрожащая или»… А с поэзами И-С катаешься на облаке, как заправский Феб или принцесса:
Колье принцессы – аккорды лиры,
Венки созвучий и ленты лье,
А мы эстеты, мы – ювелиры,
Мы ювелиры таких колье.
Колье принцессы – небес палаццо,
Насмешка, горечь, любовь, грехи,
Гримаса боли в лице паяца…
Колье принцессы – мои стихи.
Колье принцессы, колье принцессы…
Но кто принцесса, но кто же та –
Кому все гимны, кому все мессы?
Моя принцесса – моя Мечта!
И мне например, очень понравилось, что в 1918 поэт не «кроится миру в черепе», а среди этого ВСЕГО продолжает, по его признанию, «превращать трагедию жизни в грёзофарсы» – пишет дивные акварели про кокетливых красавиц и невозможные ликёры в розово-сиренево-голубом пленительном мире.
И его горечь про участь поэтов в тот, прошловековой, 17-й мне тоже – к душе:
Дни розни партийной для нас безотрадны,–
Дни мелких, ничтожных страстей...
Мы так неуместны, мы так невпопадны
Среди озверелых людей.
И, вероятно, не только мне. Именно в бурном и голодном, ослепительно безобразном 1918-м в Политехническом Музее Игорь-Северянин «выиграл» у Владимира Маяковского поэтический «Олимп» (а еще в «марафоне» участвовали такие гранды, как Бальмонт, Блок, Брюсов!). Поставщика грёз, а не громилу-футуриста публика признала «королем поэтов»:
«Я избран королём поэтов –
Да будет подданным светло!»
И от его поэзоакварелей чистый и мягкий свет, уверена, будет идти всегда. Трагедия жизни в каждое столетие – своя, и грёзы в качестве жизнеутверждающего лекарства сейчас не менее необходимы, чем нашим прабабушкам-прадедушкам…
Ассонансы и диссонансы королевской жизни
Начиная писать этот текст, я думала: Боже, да кому сейчас, в век финансовых приоритетов, нужны ажуры морской пены и небожительницы в облачных платьях? Но потом вспомнила про тех очарованных десятью игорь-северянинскими строчками соплеменников (поедателей фиалкового мороженого) на берегах Роны и Соны, и продолжила. В конце концов, «средний возраст» вспомнит о своих когдатошних увлеченностях, а молодежь, как минимум, проникнется тем, что Северянин был первым «употребителем» слова «флешка».
Да еще чешский коллега – большой знаток и ценитель русской литературы первой четверти 20-го века – насмешил: столько сил, говорит, вложено художниками, тем же Северяниным, в украшение русской жизни, даже обидно, что усилия пропали. Отчего у вас всё всегда так некрасиво?!
Я, в общем-то, могла бы ответить: холодно. Но пробудил же Север музу Северянина. Он в честь мессианства Севера и свою именную часть «удлинил».
Сочетание, кстати, этого дополнительного имени с абсолютно «южной» внешностью поэта (страдавший неизлечимой формой антисемитизма Василий Шульгин все пытался понять, чьи национальные черты напоминает ему яркая внешность И-С: « не еврейские, но определенно восточные: нос, смуглая кожа, тяжелое лицо под копной черных волос») создавало дополнительный, так любимый И-С в поэзии диссонанс. Загадку, разгадать которую до конца так никому и не довелось. Мы же нация ненормальных. Всё намешано, запутано. Вот и поэты – все как есть – вынос мозга: главный национальный классик – эфиоп, почему же у северянина не может быть итало-французского «фасада»?
Да и внешняя канва реальной жизни Игоря – Северянина – микс обыденного с невозможным (с обывательской точки зрения). По материнской линии, к слову, поэт являлся троюродным братом русской бунтарки Коллонтай, состоял в не слишком дальнем родстве с историком Карамзиным и поэтом Фетом.
Родился-то И-С в имперской столице, но когда ему не было и десяти лет, папа – мама развелись. Отец увез сына «в глушь» – в Череповецкий уезд Новгородской губернии. И учился-то Игорь в реальном училище, что не помешало его встрече с поэзией – влюбился в стихи Мирры Лохвицкой, увлекся Бодлером, потом Толстым (Алексеем Константиновичем), Федором Сологубом, Валерием Брюсовым…
В училище, кстати, не доучился – уехал с отцом на Дальний Восток, в Квантун (арендованную Россией у Китая на основании конвенции 5 (17) марта 1898 года территорию на южной оконечности Ляодунского полуострова) – крутаните глобус, чтобы осознать, какой Север пробудил поэтический дар Игоря Лотарева. А к 17 годам И-С опять в Петербурге. После смерти отца живет с матерью в Гатчине, восполняет культурный вакуум: увлечен всеми столичными театрами, концертами в Консерватории, упивается оперой. И сочиняет. Регулярно отсылает свои творения в редакции – неизменно получает обратно. Его, кстати, популярным сделали провинциальные издатели (глядишь, и наши современные южноуральские издатели всяческого литературного хлама таки отыщут эмпирическим путем некие жемчужины а ля Игорь-Северянин).
Первым поэтом, приветствовавшим появление И-Северянина в литературе стал Константин Фофанов, вторым – Брюсов. С 1905 по 1912 Северянин выпустил 35 поэтических сборников. Экстаз Игоря-Северянина оказался близок Александру Вертинскому. Шансонье написал на слова Северянина несколько песен, поспособствовав, таким образом, популярности молодого сочинителя.
Известность принёс и растиражированный в начале 1910-го года возмущённый отзыв Льва Толстого: «какая глупость!.. какая пошлость!.. какая гадость!» на вот это стихотворение И-С:
Вонзите штопор в упругость пробки,
– И взоры женщин не будут робки!..
Да, взоры женщин не будут робки,
И к знойной страсти завьются тропки…
Плесните в чаши янтарь муската
И созерцайте цвета заката…
Раскрасьте мысли в цвета заката
И ждите, ждите любви раската!..
Ловите женщин, теряйте мысли…
Счёт поцелуям – пойди, исчисли!..
А к поцелуям финал причисли, –
И будет счастье в удобном смысле!..
Настоящая же слава пришла к нему после выхода в свет сборника «Громкокипящий кубок»(1913). В рецензиях Северянин получил по полной: похвалу – вызову и эпатажу, разнос языковых новаций, как дурновкусие.
Все отзывы опять же сработали как реклама необычного автора: в том же году И-С стал давать собственные «поэзоконцерты», совершил первое турне по России вместе с «коллегой» Сологубом.
Затем последовали сборники – «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском» (1915) и др., много раз переиздававшиеся. Вечера поэта проходили с огромным успехом, чему способствовал его исполнительский дар – глухой певучий голос, гипнотизирующий слушателей, необыкновенная доброжелательность и скромность, элегантный сюртук , замедленные жесты… Пастернак вспоминал: "...на эстраде до революции соперником Маяковского был Игорь Северянин..." Женщины – от гимназисток до куртизанок засыпали И-С цветами, писали «амочные» до непристойности письма с клятвами пойти с поэтом на край света и «даже дальше». Рестораторы и принимающие его в гостях поклонники непременно ставили перед Северяниным ананасы с шампанским. Кажется, Антокольский едва не упал в обморок, когда услышал, что в ресторане поэт заказывает не безумные ликеры и ананасы в шампанском, а водку и соленый огурец…
Северянин неутомимо фантазировал и фонтанировал лет десять, постепенно его увлекла тема взаимометаморфоз добра и зла, он начинает говорить о примате чистоты, словно отрицая всё наносное (включая собственную поэзию):
Останови мотор! Сними манто
И шёлк белья, бесчестья паутину,
Разбей колье и, выйдя из ландо,
Смой наготой муаровую тину.
Что до того, что скажет Пустота
Под шляпками, цилиндрами и кэпи!
Что до того! – Такая нагота
Великолепней всех великолепий!
Поэт частенько болел, пил – уж если начинал, то «до белых слонов». Ухаживал за больной матерью. В его реальности было немного ярких красок. Богатство так и не свалилось. Издаваемые произведения едва позволяли сводить концы с концами. И-С частенько одалживался, иногда бытовые неурядицы вторгались даже в фантазии:
О, если б клён, в саду растущий,
Расправив ветви, улетел!..
О, если бы летать хотел
Безмозглый клён, в саду растущий!..
Он с каждым днём всё гуще-гуще,
И вот уж сплошь он полиствел.
Что толку! – лучше бы: растущий,
Взмахнув ветвями, улетел!
Как всякий приличный камертон, Игорь Северянин чутко и болезненно воспринимал преддверие войны и революции: «Чем дальше, всё хуже и хуже», – пишет он.
Помню, какое ошеломляющее впечатление на меня произвело его антивоенное, 1916-го года «Любопытство Эклерезиты»:
– Мама, милая мамочка,
Скоро ли будет война?
– Что с тобой, моя девочка?
Может быть, ты больна?
– Все соседи сражаются,
Не воюем лишь мы.
– Но у нас, слава Господу,
Все здоровы умы.
– Почему нас не трогают?
Не пленят почему?
– Потому что Миррэлия
Не видна никому…
– Почему ж наша родина
Никому не видна?
– Потому что вселенная
Нам с тобой не нужна…
– Мама, милая мамочка,
Плачет сердце моё…
– Различай, моя девочка,
От чужого своё…
– Ну, а что окружает нас?
Кто ближайший сосед?
– Кроме звёзд и Миррэлии
Ничего в мире нет!
Нужно сказать, что и сейчас от этой здравомыслящей акварели у меня мурашки по коже… Кстати, Миррэлия – волшебная страна, названная в честь Мирры Лохвицкой, всевозможно возвеличиваемой И-С.
Что же касается войны…Весной 1916 года двадцативосьмилетнего Игоря Лотарева призвали на военную службу. О том, как не приспособлен был поэт к казарменному быту, как он стал посмешищем в роте, рассказал в своих воспоминаниях писатель Леонид Борисов: «Рядовой Игорь Лотарев случайно, или так и должно было быть, из пяти выпущенных пуль в цель попал три раза. Дважды пульки легли кучно. Батальонный командир похвалил Лотарева:
– Молодец, солдат!
На что Северянин, он же солдат Лотарев, чуть повернувшись в сторону батальонного командира, небрежно кивнул:
– Мерси, господин полковник!
Батальонный застыл в позе оскорбленного изумления.
Кое-кто из солдат, стоящих подле стрелка, прыснул в кулак, кое-кто побледнел, чуя недоброе за этакий штатский и даже подсудный ответ, когда полагалось гаркнуть: «Рад стараться, ваше высокоблагородие!»
Наконец батальонный разразился отборной бранью и, призвав к себе ротного, взводного и отделенного, назидательно отчеканил:
– Рядового с лошадиной головой, вот этого, впредь именовать по-новому, а именно, как я скажу: Мерси. Понятно? Рядовой Мерси!.."
С этого дня на поверке взводный вызывал:
– Мерси!
И стоявший в строю Северянин отзывался:
– Я!"
Впрочем, существуют и другие свидетельства: поэт оказался никуда не годным солдатом. Главное, не поддавался муштровке, поэтому его перевели в санитарную часть. По слухам, спасли поэта от военной доли влиятельные поклонники: на внеочередной медкомиссии Игоря Лотарева «признали» негодным и «списали вчистую».
Муза №13, Флэшка, Вакх и другие
Лозунги эгофутуризма И-С:
«1. Душа – единственная истина.
2. Самоутверждение личности.
3. Поиск нового без отвергания старого.
4. Осмысленные неологизмы.
5. Смелые образы, эпитеты (ассонансы, диссонансы).
6. Борьба со «стереотипами» и «заставками».
7. Разнообразие метров», – стали не только эстетической, но и этической концепцией этого необыкновенного художника – «ироника», как он себя иногда называл, царя несуществующей страны, «где у моря ажурная пена», где живут одни королевы да волшебники. Впрочем, почему несуществующей? Жил-то Северянин с 1917-го у моря – в эстонской Эст- Тойле, да и королев в жизни встретил предостаточно- если правильно определиться в северянинской терминологии. Его удивительно новые стихи, в которых были и «златополдень», и «озерзамок», и «аллеи олуненные», и «платья жасминовые», и «ландолеты бензиновые», и «квадрат квадратов», уводили поэта и его поклонников от реальности «меж тревог и поэм». И в тоже время искусство Северянина стало ярчайшим знаком нового столетия, еще молодого XX века – с его пророками, целителями, войнами и катастрофами, и – художниками, поэтами, музыкантами, актёрами, вдохнувшими новую жизнь в старые – античные – формы. Уже после развала того имперского мира, что дал жизнь поэту, его «грёзофарсы» не утратили своего очарования. В начале 1930-х Северянин выступал с концертами в Белграде – перед русскими эмигрантами. У него «в арсенале» были стихи об эмигрантской тоске и «священной, безбожной родине». Но публика не желала их слушать, они просили его, уже слегка стесняющегося своего «поэзного» прошлого, пропеть о муарах и ликерах, лиловых очарованностях и лазоревых музыкальностях. С фантазийными подпорками от короля поэтов измученным историческими катаклизмами людям было легче дышать…
Разумеется, нашлись почитатели и у «нового» Игоря Северянина. В 1931 г году в Париже его слушала Марина Цветаева, написавшая И-С: «Среди многих призраков, сплошных приведений – Вы один были жизнь <…> Вы выросли, Вы стали простым, Вы стали поэтом больших линий и больших вещей».
История эмиграции Северянина гораздо менее трагична, чем у множества его собратьев. В 1917-м году он решил уехать в уже упоминавшуюся Тойлу на отдых. В Эстонии Лотаревы «обжились» давно: здесь учился отец поэта, отдыхали многие родственники, убегая на лето из каменного петербургского – петроградского мешка. Отдыхать поэт поехал не один – с семьёй, состоявшей из (напрягитесь!): больной матери И-С, бывшей сожительницы поэта Елены Яковлевны Семеновой, их дочки Валерии (названной в честь Валерия Брюсова), ее нянечки и музы № 13 – Мари Домбровской. Но, уехав отдохнуть, дачники остались здесь навсегда.
Оккупация немцами Эстонии (в марте 1918), образование самостоятельной республики (1920) отрезали Северянина от России, в которой после революции поэт был лишь несколько раз проездом…
Несмотря на то, что Эстонию поэт называл «оазисом в житейском море», «священная» и «безбожная» Россия оставалась его родиной и тянула к себе. В эмиграции Северянин издал девять книг. Правительство Эстонии – как русскому классику (!) в 1926-м году выделило ему государственную субсидию.
Жизнь этого русского поэта сложилась так, что из тридцати восьми лет литературной деятельности Северянин двадцать четыре года прожил в Эстонии.
В 1921 году умерла его мама. Муза №13, устав от жизни в приморской деревне, подалась …в цыганское варьете. Северянин горько запил и … женился (первый и последний раз) на дочери плотника, у которого уже несколько лет снимал квартиру.
Фелисса Круут была красива, умна, писала стихи на эстонском и русском языках, а главное любила И -С чуть ли не с детских лет. В 1922 году у них родился сын. Северянин назвал его Вакхом. Я же говорю – невозможный человек. Родился бы второй сын – назвал Бахусом. Впрочем, и жену себе – изящную зеленоглазую блондинку – дитя балтийских вод этот сын русской водки нашел «парную». Все тот же общественный деятель Василий Шульгин обескураженно вспоминал, как «северянка» сказала ему как-то:
– Знаете, а у Игоря Васильевича есть сын.
– В смысле, от другой женщины?
– Ну, он считает, что это и мой сын. Но я хочу, чтобы он принадлежал только ему. Отослала его к своей матери – не хочу видеть…
Северянин со своей Флешкой ездил с выступлениями во Францию и в Югославию. Вместе они создали «Антологию эстонской поэзии за 100 лет». Он переводил Мицкевича, Верлена, Бодлера, эстонских и югославских поэтов. С Фелиссой поэт прожил 16 лет. За ней Игорь-Северянин был, извините, как за каменной стеной. Практически не пил, хотя иногда случалось добраться до местной «шливовицы» – и тогда уж И-С не останавливался. Однако Флешка полагала избавление гения от пьянства своей главной миссией.
Но в 1931 году в жизни Северянина появилась другая женщина. И вообще в его жизни было немало муз и дам сердца – он часто влюблялся. Иногда рождались дети. Кроме Вакха и Валерии была еще дочка Тамара – идеальная копия своего необычного отца, ставшая балериной…
Так вот, разлучница – Вера Коренди (Коренева) была увлечена поэзией Игоря Северянина, и, решив, что ее назначение – быть рядом с поэтом, стала писать ему. На фоне боровшейся с зеленым змием мужа Флешкой ее обещания выглядели заманчиво. И, в конце концов, в 1935 поэт переехал к новой подруге в Таллинн. Позже Северянин сожалел о своём разрыве с Фелиссой. Последнее стихотворение о любви было посвящено именно Флешке:
Нас двадцать лет связует – жизни треть,
И ты мне дорога совсем особо;
Я при тебе хотел бы умереть:
Любовь моя воистину до гроба
Зато Вере поэт посвятил изящнейшую «Последнюю любовь»:
Ты влилась в мою жизнь, точно струйка Токая
В оскорбляемый водкой хрусталь.
Танцующие стихи
Игорь-Северянин умер в оккупированном немцами Таллине (захватчики дружелюбно отнеслись к больному поэту, перенесшему инфаркт миокарда) в декабре 1941-го года. Потом начался делёж литературного наследства. Вера Коренди не отдала первой жене «ни строчки». Сказав, что архив погиб во время пожара, она прятала его всю войну, а в 1947 году, после недлительных переговоров, продала все «сгоревшие» рукописи Игоря-Северянина Госархиву в Москве. Всю свою долгую жизнь Вера Коренди пыталась соответствовать истинной Музе, «струйке Токая» Северянина, но противные эстонцы как законную жену поэта чествовали ненавистную ей Фелиссу…
Теперь, конечно, все эти подробности не имеют никакого значения. Главное, что архив впоследствии напечатали, и к столетию поэта его «грёзофарсами» упивалась перестроечная родина:
Соловьи монастырского сада,
Как и все на земле соловьи,
Говорят, что одна есть отрада
И что эта отрада – в любви.
Какие все-таки музыкальные стихи, их легко! – можно станцевать:
Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах,
Люблю заехать в златополдень на чашку чая в жено-клуб.
Может быть, все его поэзы и пародия. А я думаю, что всё сразу – фантазия, ирония, пародия, словом прозрачная и изящная игорь-северянинская поэзия:
Мы живём, точно в сне неразгаданном,
На одной из удобных планет…
Много есть, чего вовсе не надо нам,
А того, что нам хочется, нет.
Челябинск, Вера Владимирова
Челябинск. Другие новости 16.05.17
16 мая ожидаются следующие события – Челябинск. / Заберете, когда разбогатеете: чиновники отобрали у жительницы Миасса трех детей. / В Челябинске арестован полицейский-вымогатель. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»