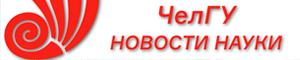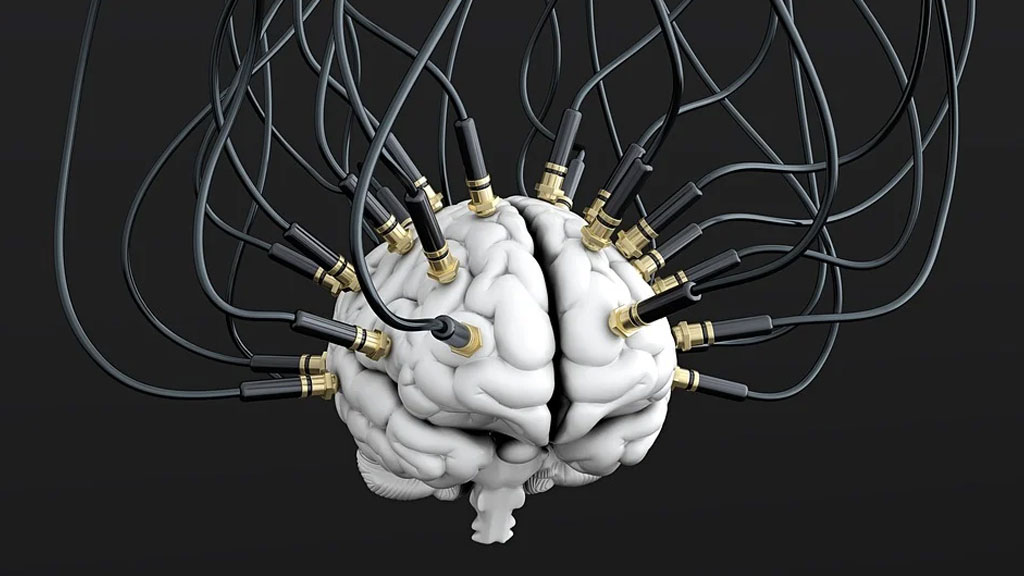Может ли русская литература быть милой?! При этом умной, занятной, социально ориентированной и смешной? Может, если мы говорим о произведениях сегодняшней «юбилярши» – Надежды Тэффи, урожденной Лохвицкой (ударение на втором слоге, а не на первом, как любил писать про ее сестрицу – Марию, поэтессу – декадентку Мирру вспоминаемый на днях поэзокороль Игорь-Северянин), в замужестве Бучинской.
Можем даже добавить – подобная литература еще может быть отличной и наводящей ужас документалистикой. Ибо в наш 2017-й стоит признать, что «историческую правду» о Гражданской войне (период с 1918 по 1920-й) честнее, веселее и страшнее Тэффи, пожалуй, никто не зафиксировал. И оттого, что в ее мемуарах нет ожесточенности «Окаянных дней» Бунина и обреченности «Несвоевременных мыслей» Горького, но на лицо всегдашнее благовоспитанное здравомыслие Надежды Александровны, прочитанное вызывает нечто вроде душевной каталепсии, сменяемой чувством стыда за чужую жестокость и осознанием многих, в общем-то, библейских, но как-то игнорируемых в повседневной жизни, истин.
А Тэффи, всеми талантами и нравственными ориентирами своей сверкающей как большущий бриллиант личности, об этих важных истинах никогда не забывает. Она просто не может без них жить.
Занятно, но она была любимым писателем не только Николая Второго (хорошо известна история о том, что на вопрос, кого из писателей самодержец хотел бы видеть на соответствующих торжествах 300-летия Дома Романовых и на страницах литературного сборника по этому же поводу, он почти попросил: «Никого не нужно, одну Тэффи»).
Ею зачитывалась Софья Андреевна Толстая (правда, сам классик относился к творениям Т несерьезно).
Аркадий Аверченко, человек малокомплиментарный, изрек: «Не было у нас женской прозы, и вот Бог послал Тэффи». Её рассказы и даже романсы, не говоря уж о ней самой, нравились такому мизантропу и «нигилисту» как Саша Черный. Хотя романсы эти по большей части вызывали и вызывают гомерический хохот, как например «Черный карлик» из репертуара Вертинского:
Мой черный карлик целовал мне ножки,
Он был всегда так ловок и так мил!..
Мои браслетки, кольца, серьги, брошки
Он убирал и в сундучке хранил. Но в черный день печали и тревоги
Мой карлик вдруг поднялся и подрос...
Вотще ему я целовала ноги –
И сам ушел, и сундучок унес!
Я когда этот пародийный текст вижу или слышу, вспоминаю ремарочку в конце бунинского письма, адресованного уже очень «взрослой» Тэффи: «целую ваши ручки, брючки и прочие штучки – дрючки». На что Т жизнерадостно и остроумно отреагировала: «особенное мерси за штучки-дрючки, которые уже лет сорок никто не целовал».
Вот Бунин, кстати, тоже Тэффи был предан и зависим от нее до чрезвычайности: в глухой эмиграционной тоске она одна могла его рассмешить и растормошить. Он от «Городка» хохотал до слез:
«Это был небольшой городок – жителей в нём было тысяч сорок, одна церковь и непомерное количество трактиров.
Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Секваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, жители стали называть её «ихняя Невка». Но старое название всё-таки помнили, на что указывает существовавшая поговорка: «живём, как собаки на Сене – худо!"
Жило население скученно: либо в слободке на Пасях, либо на Ривгоше. Занималось промыслами. Молодёжь большею частью извозом – служила шофёрами. Люди зрелого возраста содержали трактиры или служили в этих трактирах: брюнеты – в качестве цыган и кавказцев, блондины – малороссами.
Женщины шили друг другу платья и делали шляпки. Мужчины делали друг у друга долги.
Кроме мужчин и женщин, население городишки состояло из министров и генералов. Из них только малая часть занималась извозом – большая преимущественно долгами и мемуарами…»
Но я отвлекалась от мысли – не только царь да коллеги (к уже имеющимся «авторитетам» нужно добавить Гиппиус с Мережковким, Гумилева, да и вообще практически всех «цеховиков») – Ленин ценил ее иронию!
Правда, «Наденьке русской литературы» Ильич категорически не нравился (они лично встречались в 1905-м), и в июне 1917-го она опубликовала про него преотличный текст «Немножко о Ленине»: про его набитый лоб, что поскачет лишь от хорошего пинка, про отсутствие у вождя мирового пролетариата внутреннего компаса, и оттого вечного принюхивания к Западу, возникшей в связи с этим « бестактности»запломбированного вагона», которой «Энгельс не мог предвидеть… и не мог дать своей директивы».
И большевистский переворот Тэффи не приняла. В 1919 году в Одессе был написан рассказ «На скале Гергесинской», где она однозначно и блестяще сформулировала, что не может принять мира, где «нет религии, нет закона, нет обычая и определенного (хотя бы тюремного, каторжного) уклада», а люди обращены в «рычаги, ремни, винты, колеса и приводы великой машины». Так что ее решение эмигрировать было принципиальным. Происходящее на родине, особенно страх и эзопов язык « бывших» ее угнетали. Из «Тонких писем»:
« Письмо брату в Совдепию:
«Дорогой Володя! Письма твоего не получал. Очень хорошо, что у вас так хорошо. Неужели правда, что у вас уже не едят человеческого мяса? Этакую-то прелесть! Опомнитесь! Говорят, у вас страшный процент рождаемости. Все это безумно нас успокаивает. Мне живется плохо. Не хватает только вас, и тогда было бы совсем скверно... Я вышел замуж за француза и в ужасе.
Твоя Иван-сестра.
Приписка: Всех вас к черту. Тэффи.»
Удивительно, но рассказы Тэффи печатали в Советской России. В издательстве, воображаю, как она веселилась, «ЗиФ» – «Земля и Фабрика»! Печатали аж до 1929-го года – уже когда перестали издавать Эрдмана, начались проблемы у Булгакова (хотя нет даже недостоверных сведений о том, как к ней и её творчеству относился товарищ Сталин). Писали, разумеется, соответствующую преамбулу: мол, вот и раньше писали обличающе, хотя авторы и были личностями незрелыми – заблуждающимися. Но мы их публикуем, несмотря на наличие своей советской сатиры, чтобы вспомнить про вопиющие недостатки прежней жизни, о которых не молчали даже аристократки. Тэффи кстати притворно возмущалась: дескать, печатают, а гонорары не платят, эксплуататоры литературного труда…
Дочь профессора криминалистики и экс-супруга известного юриста, она знала что требовала. Она вообще любила поговорить о гонорарной « статье»: «из всего литературного процесса мне нравится лишь получать гонорары, все остальное – того не стоит… Я вообще треть жизнь прожила без литературного творчества, возможно, это меня и спасло…»
Тэффи и вправду писать начала поздно (для своего времени, когда поэты становились популярны к 18 годам) – года в 24, известна же стала к 29. Но, видимо, выбор этот был сущностным: потом она творила вплоть до последнего дня.
Первая часть жизни Нади Лохвицкой была «традиционной и неинтересной»: гимназия, влюбленность и замужество, рождение трех детей... А потом – как отрезало. Словно страницу книги перевернула. В новой «литературной» реальности, переживая кучу всяких разных «дружб», романов и гражданских браков, с детьми (и бывшим мужем, с которым дети остались) писательница Тэффи, конечно, виделась – общалась, но как-то нерегулярно, что ли. Без фанатизма. В общем, дама была непростая. И иначе – шиш бы она состоялась как писатель, да еще на таком зыбком – «смешливом» – поле.
Тэффи, при всей своей толерантности и приятности, коммуникабельности и умении держать дистанцию (сохраняла хорошие отношения со всеми «трудными» коллегами, противными родственниками и невыносимыми прочими) была такой кошкой, сильно сама по себе. Буржуазная повседневность ей – кокетке, блондинке, красотке – нравилась. Её наряды, шляпки, серьги и колье, интерьер квартиры и даже закуски в ее Парижском литературном салоне были не только стильными, но и баснословно дорогими.
Однако черная полоса эмиграции показала, сколь малым она могла обходиться. Особенно, когда очередной гражданский муж, не выдержав разорения, умер от переживаний, а она практически ничего не могла заработать литературным трудом. Уже сильно немолодая Тэффи даже подумывала: не попробовать ли «прокормить себя иглой». К счастью, один сердобольный французский филантроп назначил ей пенсию. Но на встречу в советское посольство «в своих стесненных обстоятельствах» Тэффи не пошла, и предложение Симонова и прочих «вербовщиков» вернуться в СССР отвергла. Она была женщиной свободолюбивой. И с совершенно особым юмором. Умудрялась окрашивать в «веселые тона» и пафосные, и трагические темы.
Но ведь совершенно особым был весь юмор «Сатирикона», основанного Аркадием Аверченко. Аверченко умудрился привлечь к литературе, к сотрудничеству самых одаренных людей. Не только Тэффи (ей, кстати, было уже сорок, когда она стала «получать в этом буржуазном журнале приличные гонорары») – Саша Чёрный, Куприн, Грин, иногда даже Бунин здесь печатались. Это был не «развлекательный» коммерческий проект, а профессиональный литературный журнал со сложным замахом на хорошую сатиру при тогдашнем примате мрачности, больной эротики, жутких преступлений и плохой юмористики « про тещу и неверных супругов».
У всех вышеназванных авторов юмор оказался, что называется, «в крови». Они знали, по Саше Черному, «тайну смеющихся слов». Это был стиль, который мы сейчас еще хорошо считываем, прямо с детства, у Хармса – смех, замешанный на абсурде, ибо все смешно, все абсурдно. И только литература, только слово, если уж исходить из мировоззрения сатириконцев – священно. Хотя тоже не окончательно.
Из Тэффи:
«Школа философов-стоиков утверждала, что ни одно произнесенное человеком слово не исчезает и что в мировом пространстве оно живет вечно. Итак, как с тихим отчаянием заметил один из современных нам нефилософов, – мировое пространство заполнено человеческой брехней. Мировое пространство беспредельно. Человеческая брехня также. Предельное насыщается предельным. Может быть, беспредельное заткнется когда-нибудь беспредельным, и мы, наконец, успокоимся». Юмор Тэффи разнообразен и легок. Он вездесущ – им пронизано все ее творчество. Но Тэффи может быть, к слову, и саркастически беспощадной, когда дурак изображает талант, или пошлячка прикидывается «Демонической женщиной»:
«Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для цианистого калия, который ей непременно пришлют в следующий вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке.
Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу.
За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест.
– К чему?
Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большею частью она – актриса.
Иногда просто разведенная жена.
Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о которой нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать.
– К чему?
У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза.
Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:
– Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.
Церковь ночью заперта.
Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но она уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасенья нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф.
– К чему?
Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе.
И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе. Она никому не читает их.
– К чему?
Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился – последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она наконец согласится опубликовать свои произведения.
Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе.
– К чему?
А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова:
«Возвр.», «К возвр.».
– Я видел в вашем окне свет часов в пять утра.
– Да, я работала.
– Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для нас!
– К чему?
За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.
– Марья Николаевна, – говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте. – Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина.
Демоническая закроет глаза рукою и заговорит истерически:
– Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я третьего дня пила и завтра… да, и завтра я буду пить! Я хочу, хочу, хочу вина!
Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелятся.
– Пьет.
– Какая загадочная!
– И завтра, говорит, пить буду…
Начнет закусывать простая женщина, скажет:
– Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук.
Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит:
– Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я хочу. Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее… больше… больше, смотрите все… я ем селедку!
В сущности, что случилось?
Просто разыгрался аппетит и потянуло на солененькое! А какой эффект!...»
Вам ничего не напоминает процитированное?! Верно: это чеховские интонации. И чеховская безошибочная «чуйка» на слова – органичное совмещение для достижения нужного эффекта при раскрытии сущности пошлятины разных лексических пластов + канцеляризмы и неологизмы. В случае с Тэффи это еще (очень часто на самом деле) – детские неологизмы, ругательства и «точные неправильности». Но Тэффи и сама частенько говорила, что вышла из Чехова и Мопассана. На мой вкус – и из всей чудесной английской «последиккенсовской» классики. Она и личностью своей напоминает этакую здравомыслящую мисс Марпл – с ее точным следованием личному «внутреннему закону» (видимо, жизнь с юристами не прошла для Тэффи даром, она считала ограничения некой составляющей хорошего воспитания). Но, конечно, это мисс Марпл без «стародевических» и возрастных замашек, что и говорить.
Если же говорить о Чехове… Это прямо какая-то физико-историческая несправедливость, что Надежду Александровну так развели во времени с Антоном Павловичем. Они бы обязательно, встретившись, «нашли» друг друга – два красивых, щедро одаренных, интеллигентных человека. К тому же – не нудные, превосходно воспитанные, образованные и до крайности брезгливые по отношению к пошлости и дурости. И, с другой стороны, ужасно сострадающие всем этим разобщенным и несчастным дуракам (а дураки все вокруг). И оба они – и Тэффи, и Чехов, в отличие от многих нечутких соотечественников, были очень восприимчивы и к несчастьям близких, и к красотам и интересностям всего божьего мира (оттого и каждая встреча с ними так приятна и неутомительна).
Наверное, именно поэтому Тэффи и мысли не допускала о возвращении в закрытый и мрачный Советский Союз. Как она едко шутила: «Человеческое воображение ничто перед коммунистической действительностью».
Угрюмый Бунин – уж куда барин – почти согласился после 1945-го вернуться и обрести советское гражданство. А эта, как говаривал Бальмонт «si blonde, si gaie, si femme», но спустя тридцать лет – седая больная старуха, проявила потрясающую мужественность и сдержанность, и вкус: она не сочла зло соблазном только потому, что была бедна и немощна. Какой ужас! И какой шик
Знаете, у меня есть приятель, который всерьез и давно считает, что Макаревич посвятил именно Тэффи строки: «Чтобы жить и дышать, и любить, и мечтать/ Пусть меня не оставит надежда».
Я всегда считала это бредом и полагала, что Тэффи – это легкое и английски-облагораживающее литературно-эфирное явление – не имеет никакого отношения к концепту Макаревича. И вообще ни к какому подобному концепту. А теперь вот думаю: может, не разглядела какой синхронизм? Вот ведь и у Чехова последний рассказ назывался «Надежда»…
Какая-то грустная у меня последняя нота. Оно конечно – 145 лет-то героине спича не исполнилось (Тэффи прожила 80 лет: «Я хочу умереть молодой …никак не раньше шестидесяти»).
Да и обстановочка окружающая (и литературно-историческая, в том числе) как-то не радует, как писала именинница (почти век назад!): «Теперь интересуются не русской культурой, а кое-чем диаметрально противоположным – русским сырьём».
Надежда опять же – на улучшение всех и всего – постепенно «оставляет», так что уж думаешь не последовать ли здравому совету несравненной Надежды Александровны:
« И потом вот что нужно решить окончательно – если вам живется плохо, не лезьте в хорошую жизнь.
Ничего из этого не выйдет, и скажите себе прямо: я живу плохо, ну что же делать – буду жить плохо.
И устраивайте свой плохой быт просто в спокойно – Живу плохо, и кончено...
Жить плохо это очень, очень скверно. Очень тяжело.
И чего это я взял, что от плохой жизни все будто бы ломятся в хорошую.
Нет, дружок мой, гораздо чаще вспоминают, что есть и другая дверь, в другую сторону».
Хотя если верить «академической» Тэффи, что выворачивала штампы «своих» – гимназических – учебников по истории, сочиняя во «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом» античную и средневековую части, по общечеловеческому счету мы живем сравнительно недурно:
«Воспитание детей было очень суровое. Чаще всего их сразу убивали. Это делало их мужественными и стойкими. Испанцы привезли индейцам кожи, ружья, порох, рабство и склонность к грабежам и пьянству. Благодарные индейцы отдаривали их картофелем, табаком и сифилисом. Обе стороны поквитались, и никто не мог упрекнуть друг друга в отсутствии щедрости: ни Европа, ни Америка.
Благодаря проискам Фемистокла гегемония перешла к афинянам. Афиняне посредством остракизма отправили этого любителя гегемоний путешествовать.
Брак у них (славян) заключался без излишних проволочек. Мужчина накидывал на голову нравившейся ему женщины мешок, связывал руки и тащил в свой дом; таким образом, брак заключался с обоюдного согласия. Еще меньше проволочек требовал развод. Например, отделение головы от туловища у жены считалось достаточным поводом к разводу, и с первого же момента муж, отрубивший голову жене, считался снова холостым и мог беспрепятственно жениться на другой.
Петр застал Русь бородатою и оставил взлохмаченною.
Карл Великий велел предать казни четыре с половиной тысячи пленных саксов. Конечно, для современника, читающего газеты XX века, эта цифра не может показаться значительной, но в то время, во-первых, население было гораздо меньше, а во-вторых, вовсе не было газет.
В воздании божеских почестей египтяне не были особенно разборчивы. Они обожествляли солнце, корову, Нил, птицу, собаку, луну, кошку, ветер, гиппопотама, землю, мышь, крокодила, змею и многих других домашних и диких зверей. Ввиду этой богомногочисленности, самому осторожному и набожному египтянину ежеминутно приходилось совершать различные кощунства. То наступит кошке на хвост, то цыкнет на священную собаку, то съест в борще святую муху. Народ нервничал, вымирал и вырождался…
Римские императоры, воспользовавшись этим боголюбием своего народа и решив, что маслом каши не испортишь, ввели обожание своей собственной персоны».
Честное слово, вот умом понимаю – Тэффи людей как-то не уважает. Мелковаты они для нее, от дурости несчастны и делают несчастными других. Но мысль эта странным образом облагораживает, заставляет чуть приподняться, оглядеться, встрепенуться. За что – от потомков, мадам Тэффи, Вам сердечное мерси. Будем и дальше имитировать наличие у нас четырех «Ваших» пистолетов:
«На белом свете жить трудно.
И не столько утомляет необходимая для жизни работа, сколько самозащита.
– От кого? Кто нападает?
– Все. Всегда. Везде. Всячески.
Отчего же они нападают? Борьба за существование? Otes-toi que je m'y mttte! (Убирайся, я займу это место!) Спихнув человека, занять его место?
Ах, если бы так! В этом был бы хоть практический смысл.
А ведь то, от чего постоянно защищаются, смысла не имеет, потому что не имеет цели. Имеет только причину.
Причина это – больная печень, бешеная форма неврастении, реакция на неотмщенную обиду, зависть, отчаяние и глупость.
Все это действует порознь или в различных сочетаниях или огромным воссоединяющим аккордом.
Как на органе «grand jeu», когда все клапаны открыты для потрясающего своды гула и рева.
Такова жизнь, таков человек. Ничего не поделаешь.
Чем же люди защищаются? Каково их оружие, их щит?
А оружие их таково: Молодость, красота, деньги и удача.
Эти четыре пистолета должны быть у каждого.
Если их нет – нужно притворяться, что они есть».
Челябинск, Вера Владимирова
Челябинск. Другие новости 20.05.17
Под Троицком собралась огромная пробка на границе с Казахстаном. / Ученые: на Луне есть вода. / Челябинская полиция задержала грабителей, напавших на супружескую пару в «Парковом». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»