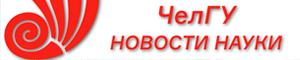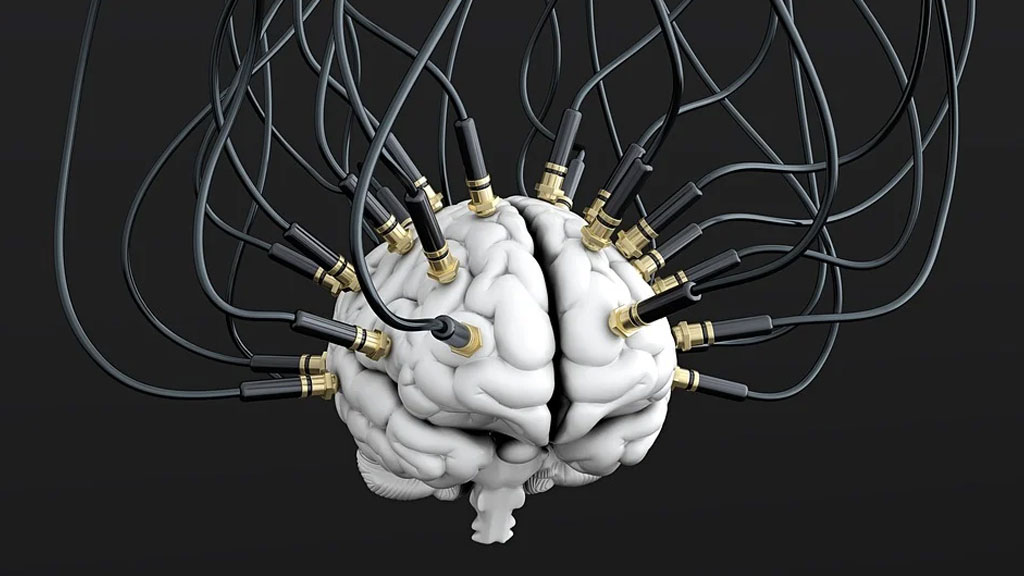Ничего не поделаешь – именно в августе – звездном, арбузном, прозрачно воздушном (не все же земляне живут в Челябинске) – традиционном российском месяце бифуркаций умер «трагический тенор Серебряного века», как называла Блока Ахматова, убили Конквистадора – акмеиста и влезла в петлю Наполеон русской лирики….
Поэта Александра Блока не стало в начале августа 1921-го, поэта Николая Гумилева – в конце. Поэт Марина Цветаева свела счеты с жизнью в последний августовский день 1941-го.
Ужасно обидно – август мой любимый месяц. Месяц, когда упиваешься последним теплом, витаминами, светом… А тут оплакивай кумиров. Такие вот мы все эгоисты несчастные.
Зачем я взялась писать об этом? Ведь только подумаешь о таких культовых фигурах – дух захватывает.
Черные юбилеи?! Созвучия времен?? Извечный диссонанс между прозой российской жизни и лирическими туманами русской же поэзии? Ну, так умы поизобретательнее моего чего только по этому поводу не сказали. И прозорливого, и банального, и кликушеского, вроде: ах, не ценим гениев при жизни, а после смерти спохватываемся – да уж некого беречь.
Да ладно!
За гробом Блока в голодном измученном, вымирающем Петрограде 21-го года шла колоссальная толпа. 10 августа хоронить поэта вышло несколько десятков тысяч людей. Гроб с «Гамаюном» несли шесть километров на руках до Смоленского кладбища. Ничего поразительного даже для города, в котором к тому времени разруха выкосила две трети дореволюционного населения, – российская читающая публика Блока обожала….
За ночь с Гумилевым приличные девушки готовы были стать профурсетками – и все дело в обаянии поэзии и ума, а не красоте и «мачизме»: уж какая там привлекательность – разноглазый с вытянутым черепом, пришепётывающий…
Цветаева даже самые непривлекательные женские черты превратила в поэтические шедевры, чем вызвала интерес у мужчин и окончательно примирила с собственными недостатками дам. Хотя в ее поэзии, как она сама говорила – «семь поэтов» – у нее такая потрясающая техника, такая пульсирующая мысль, такая удивительная логика и здравомыслие, прекрасно уживающиеся с бешеным темпераментом и небесными образами…
Я пишу об этом, потому что смерть этих книжных спутников всей моей жизни каждый август вызывает несколько мучительных и неразрешимых вопросов. О них, о нас. О России. Потому что, не Сталин и прочие горе – деятели российской государственности, а поэты вели – ведут, утешали – утешают и помогали- помогают вынести в этой стране все имеющиеся грязненькие гадости и великие испытания , сохранив в иссыхающей от разочарований душе красивую мечту, несбыточный, но прекрасный идеал, занозящую мозг идею…
Может и вас гложут те же вопросы или мысли по поводу – вот и поговорим.
Почему умолк Гамаюн?
До кончины 7 августа 1921-го года Блок болел и мучился несколько месяцев: с начала весны 1921-го, после пережитой зимы с ее «ежесекундным безденежьем, бесхлебьем, бездровьем», Блок чувствовал себя неважно, страдал от цинги и астмы. Но работал по-прежнему. Доктор Пекелис, живший с ним в одном доме, ничего уж смертельно опасного в его состоянии не находил. И все же больному становилось заметно хуже. Наконец, в мае Пекелис поставил диагноз: острый эндокардит вследствие перенесенной инфекции – за несколько месяцев до этого поэт переболел гриппом. В начале июня доктор Пекелис консультируется с коллегами – профессором П. В.Троицким, доктором Э.А. Гизе. «Было признано необходимым отправить больного в ближайшую Финляндию, – в Grankulla (у Гельсингфорса). Тогда же (в начале июня), тотчас после консультации, возбуждено было соответствующее ходатайство», – из записок Георгия Иванова.
Хлопотали с просьбой выпустить поэта на лечение за границу и Максим Горький, и нарком Луначарский. Счет шел на дни, однако... Решение вопроса затягивалось. Политбюро запрещало выезд. Обращались еще и еще раз... Разрешение на выезд все-таки было дано, но слишком поздно. Как раз в день, когда был готов его загранпаспорт, Блок умер.
В официальном медицинском заключении значится такая причина смерти: «цинга, голод и истощение». Подобный диагноз – не редкость для тогдашнего Петрограда, для замученных и постоянно недоедающих, безденежных и истощенных политическими репрессиями представителей русской интеллигенции.
От эндокардита и сейчас умирает половина пациентов. Лечат их антибиотиками. Первый антибиотик был получен через 18 лет после смерти Блока, в СССР же его производить и применять начали только в 1944-м .
Культурологическая версия смерти Блока повторяет слова, что незадолго до смерти Блок произнес на пушкинском вечере: «Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем».
В «свободные» 1990-е исследователь Александр Эткинд таки шокировал поклонников поэта версией, что тот скончался от рецидива сифилиса.
А в конце 30-х несколько советских психиатров в специализированных журналах, один их которых издавался на Урале – в Свердловске, пространно рассуждали о душевном недуге поэта, как болезни тяжелой наследственности.
Хотела бы я такую наследственную болезнь, чтобы в 18 лет написать «Гамаюн, птица вещая», увидев чужое полотно: На гладях бесконечных вод, Закатом в пурпур облеченных, Она вещает и поет, Не в силах крыл поднять смятенных... Вещает иго злых татар, Вещает казней ряд кровавых, И трус, и голод, и пожар, Злодеев силу, гибель правых... Предвечным ужасом объят, Прекрасный лик горит любовью, Но вещей правдою звучат Уста, запекшиеся кровью!..
Уже в брежневские времена врачи подтвердили точность диагноза домашнего врача Блоков. Эндокардит, и точка. И, увы, поэту, и, правда, – дышать было нечем. И от этого диагноза не уйти. Хотя нет – нет, да возникает ощущение, что причудливый дар Блока как бы подбросил последующим биографам такую поэтическую формулу.
Меж тем, куда больше вопроса от чего умер поэт ( есть ведь версия, что его специально отравили ртутью – а небось ртутью этот самый пресловутый сифилис и лечили), интересует меня тот неоспоримый факт, почему задолго до смерти, и вообще-то за пару лет до революции и прочих ужасов Блок, как он сам говорил перестал слышать жизнь как гармоничное целое.
Этот красивый и таинственный человек – эталон безусловной чистой поэзии – имел к тому же абсолютный социальный слух – на любые исторические перемены. Себя же чудесным органичным образом всегда идентифицировал с Родиной: О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!...
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!
Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
Мы помним всё – парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады...
Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых...
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные обьятья!
Пока не поздно – старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем – братья!
А если нет – нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!
Но сами мы – отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!...
В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
При этом реальную российскую жизнь поэт вовсе и не знал, – он ее чувствовал безошибочно. Исследователи – хотя знатоков его творчества немного, находят ошибки в исторических и философских работах поэта, но все едины – интуиция у Блока потрясающая. Его тайные знаки – а он их видел всюду и без устали записывал – трудно расшифровывать нам. Зато современники считывали с полуслова. Наверное, это почти необъяснимо, но Блок уловил, что наступает исторический период, когда его страна превратилась в поле действия неких сил, присутствие коих понятно даже не вполне чуткой натуре: что-то вечное завершается, что- то великое и ужасное начинается. Конечно, в своем ощущении эпохи совпадали и другие очень разные художники: Бунин, Черный, Белый, Иванов, Есенин и Мандельштам. И все же блоковский камертон – на исторические катаклизмы, собственный душевный разлад, состояние близких – феноменальный! Ну, да правы эскулапы: от матери поэт унаследовал нервозность и впечатлительность, от отца – ипохондрию, склонность к одиночеству и – от обоих – припадки мизантропии. Блок страдал от астмы, мигрени, приступов слабости, а тоску и уныние фиксирует чуть ли не каждая страница его дневника. Но! Поэт превосходно чувствовал себя в минуты общественного подъема – без разницы, шла речь о созидании или разрушении. В разгар революционных событий 1905 года он жил в своей усадьбе Шахматове, в столицы почти не выезжал. Однако испытывал перманентное нервное возбуждение и писал свои лучшие стихотворения – в том числе и шедевр:
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,– плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
Бог его знает, не тогда ли серьезно заболел поэт, ощутив совпадение своей духовности с судьбой Отечества. По взлетам его творческой активности можно выстроить кривую российской истории: 1905-й, первая половина 1914-го и 1918-го – подъем, затем – спад и очередной мутный сон. Ведь именно в 1914 году Блок пишет «Соловьиный сад» – поэму о сне, о выпадении из реальности. Для него реальность – лишь отражение мистической жизни России. Да-да, разговоры о русской мистике в последнее время стали общим местом, но ведь, по большому счету, история по многим параметрам мистическая субстанция. А может болезнь умолкания у Блока развивается в 1915-м, когда звуки вокруг него начинают постепенно искажаться, а потом исчезают. Ведь как вспоминал Чуковский, в начале 20-го поэт спросил у него: «Разве вы не слышите – все звуки прекратились?» Звуки для него – суть знаки. Музыкальная партитура истории. И истории его родины, в первую очередь. Когда в 1917 году ход истории был насильственно повернут людьми «немузыкальными», Отечество стало для поэта территорией бедствия.
Ведь не забывайте – революция, которую приветствовал не только Блок, но и другие весьма неглупые художники, – это была не кровь и грязь гражданской войны, а великий, в том числе, и эстетический проект именно поэтов, мечтавших вынести искусство на улицы, победить пошлость старого мира. Мира, который Блок называл «страшным». Он-то и его единомышленники полагали, что революция осуществит мечты лучшей части человечества, произойдет антропологический прогресс… Но поскольку революция обернулась кровопролитием и зверствами, мы – люди XXI века, как и современники поэта из 21-го года, Блоку, увидевшему Христа впереди тех 12 – не верим. Мы тоже в плену лишь одного стереотипа. Думать-то о предшествующем революции лень…
Обновление, на которое надеялись поэты – небожители, создавшие хрустальные колокольчики серебряного века на руинах разваливающегося старого мира, сменилось окостенением – оледенением. Музыка высших сфер распалась – жизнь перестала звучать. Блок оглох и умер. А то, что он видел в те дни, сам точно и описал, когда, вернувшись в начале 21-го года домой с литературного заседания, на вопрос матери, пораженной выражением его измученного и испуганного лица ответил: «Я шел сюда – и из каждой подворотни на меня словно глядели рыла, рыла, рыла». Увы, ни бредом, ни кошмаром это не было. Очень многие мои знакомые так ощущают себя ныне – те, что ровесники Блока и те, что уже лет на десять «пережили» Блока, – когда включают телевизор или сталкиваются – случайно, но неизбежно, – с экстремально настроенными соотечественниками…
Это не поэт сходил с ума – это вектор российской судьбы потерялся, растворился…. И сейчас многим из нас по-новому понятно его тогдашнее состояние. Исходя из нашего исторического опыта и ощущение безысходности: век прошел, гармония жизни не восстановлена. Да-да, это словно про нас поздние блоковские «Ни сны, ни явь»: Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходят Магдалина с сосудом, Петр с ключами; Саломея несет голову на блюде; ее лиловое с золотом платье такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой.
– Душа моя, где же твое тело?
– Тело мое все еще бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже ее потеряв
Окончательно разозлившийся черт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность»
И его «Сограждане»: «Болото вымостили булыжником. Среди булыжника поставили каменные ящики и перегородили их многими переборками. Каждый маленький ящик оклеили бумагой. В ящик положили: стол, стул, кровать, умывальник, Ивана Ивановича и его жену.
У Ивана Ивановича есть бессмертная душа. У его жены – тоже есть. У Ивана Ивановича и его жены вместе – меньше бессмертной души, потому что они сильно отличаются друг от друга: Иван Иванович – мужчина и служит; жена его – женщина и хозяйничает. Различаясь так сильно, они часто не ладят друг с другом и тем взаимно истребляют свои бессмертные души.
За переборкой живут такой же Иван Иванович и такая же жена его. Если снять переборку, то у всех сложенных вместе окажется еще меньше бессмертной души, потому что не поладят друг с другом не только Иван Иванович с другим Иваном Ивановичем и жена одного с женою другого, но также два стола, двенадцать стульев, четыре кровати и два умывальника.
Если снять все переборки в большом ящике и соединить вместе все, что сохранялось за всеми переборками, то не получится не только бессмертной души, но самый даже разговор о ней покажется странным и неприличным. Всем этим соединенным вместе – какая может управлять бессмертная душа, если все ее полномочия переданы – выбранному всеми гражданами, здесь живущими, домовому комитету?
– А немцы вчера бросали прокламации с аэроплана: завтра, мол, придем, а коли не поспеем, – так в субботу, – сказал мне председатель домового комитета, очень почтенный человек. У него были старинные седые бакены, синяя рубашка в полоску и старые подтяжки. Через дорогу у него была мелочная лавка, ныне переданная в ведение домового кооператива.
С председателем домового комитета не поспоришь. Не знаю, кто выбирал его. Говорят, выбрали единогласно все граждане, населяющие тот дом, в котором я живу. Я не выбирал, но я не уверен, принадлежу ли я к числу граждан, населяющих дом. Во всяком случае, если бы я принадлежал к ним, я бы, конечно, тоже выбрал его. Он, должно быть, очень почтенный и расположенный к добру человек.
Я с ним и не спорил; но у меня было совершенно особое чувство; пока было самодержавие, я всегда верил тому, что мне рассказывали; скажет какой-нибудь господин: завтра такого-то назначат министром народного просвещения. Так уж и знаешь, что проснешься завтра, а уж вся Россия ликует: у нас такой-то новый министр народного просвещения! И в газетах сказано, что вся Россия ликует».
Блоку в той России места не было. И вот в этом августе, как и в предыдущем, считывая – Блок нам в помощь – знаки и звуки грядущего (а следующий год уже 17-й), я все чаще ощущаю всю ту же тревожную ноту исторического оледенения и личную – в духе Гамлета Блока: «Холодеет кровь…»
Челябинск, Вера Владимирова
Челябинск. Другие новости 29.08.16
29 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / Президент Узбекистана госпитализирован в тяжелом состоянии. Возможно, инсульт. / Меркурий против Солнца. Гороскоп NDNews на 1 – 11 сентября 2016. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2016, РИА «Новый День»