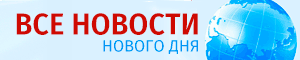– А я как-будто бы и не слышу ничего. Нет, но все же, как же это отличается, наверно, если прислушаться – вместо быстрых, резких слов, скомканных фраз они произносят что-нибудь безумно глупое, но так медленно и нежно, что нехорошо становится мне, чего тут говорить о нем. «И будет «йо-о-о-ми-йо-о-ми»! Пауза. Вку-у-усно», и облизнулась, сука сероглазая, перед тем, как заправить себе ролл с копченым угрем глубоко в глотку. А он застыл, понимаешь, просто смотрит на нее так, что у него кончики ушей едва не шевелятся, фетишист звуковой хренов. Эти плоские москвички, без задницы и сисек, но, Бог ты мой, я бы как та Русалочка не голос на эволюцию хвоста в ноги променяла, а ноги бы свои отдала за ее голос.
– Чего она там променяла? – спросила Марина.
– Ну, вспомни, ей хвост разрезали, чтобы она ходить могла, но побочным эффектом ведьминого средства был обет молчания, плюс еще ноги болели что ли...
Женя подлила себе коньяка, разбавила соком, закурила и мечтательно посмотрела на Марину. Сестра сидела на подоконнике, сосредоточенно изучая свои ногти.
– Мы когда еще летом сидели с ним, там на этой лавке дурацкой в три часа ночи, обоим еще писать хотелось, но никто не признавался – тут ведь как получалось, что первое свидание фактически, то есть либо в кусты валить, либо поцелуя ждать, ну и, понятно, как только поцеловались, обнялись, потом сразу паузу взяли, чтобы сбегать, ну а потом уже все, обниматься-целоваться, еле до дома дошли... И он мне потом все вспоминал. «Волосы», – говорил. – «Глаза. И твоя буква «р», которую ты то грассируешь, то рычишь, если торопишься что-то сказать». И больше ничего не надо было мне, говорил.
Марина глупо хихикнула.
– А как же тема сисек? – сказала она.
– Понимаешь, – отвечала Женька, – для него же тема голоса важнее сисек. Его же нет, он же в разъездах, с ним же любовь в телефонной трубке живет, а тут эта, сука, одноклассница, романтический ужин хером покатился…
– Да забей, нафиг тебе все это надо. Москвички с киевлянками, Егор и дружба народов. Ты ж у нас всегда сама по себе, а мир где-то побоку.
– Ну как это нафиг надо? Люблю я тут, ага. И как можно сравнивать – она ему, как у Пушкина, «поверяет нараспев сердечны тайны» где-нибудь на Чистяках, а я ему что ли только и могу, что отсосать ночью на Лысой горе?
– «Текут невинные беседы с прикрасой легкой клеветы?” – спросил папа, вваливаясь на кухню с незажженной сигаретой в зубах.
Девчонки вздрогнули.
– Папа, ты не понимаешь.
– Я не понимаю, ага, даже спорить не буду. Зажигалку отдайте и я уйду.
– Опять подслушивал, – сказала Женя, когда отец вышел.
– Господи, ну папа-то в чем виноват? – рассмеялась Марина.
– Слишком точно продолжил цитату.
– Мы живем в свободной стране, – раздался папин голос откуда-то из коридора.
– Я отказываюсь жаловаться на жизнь в таких условиях. – Женька встала и высыпала пепельницу. Бабьи посиделки тоже были безнадежно изгажены.
Есть удивительные люди, которые умудряются не просто видеть мир как кино, но и вполне корректно жить в нем. Они всегда верят в то, что они делают, а жизнь по контуру состоит из набора ярких картинок – каждому своих, от походов и пикников до шоппинга и фешн-виков. Самое смешное, что им всё это действительно удается – их вера в яркую картинку настолько сильна, что меняет пространство вокруг. Это как верующие старухи из разных околохристианских организаций, которые умудряются видеть Божий промысел не только там, где его нет по определению, но даже и там, где творится очевидное зло и беспредел (история с киевским мэром тому подтверждение). И самое смешное, что спорить с ними, с верующими, абсолютно невозможно – потом всё списываешь то ли на уважение к летам, то ли на бесполезность данных споров, стесняясь признаться самому себе, что причина твоей сдержанности к их бреду не во врожденной толерантности, но именно в свойстве этого бреда менять мир вокруг. И если ты сам не являешься носителем столь же яркого чувства правды относительно чего-либо, то ты, чувак, попал. Бессмертная душа Адама Козлевича была спасена только потому, что Остап истинно веровал «Бога – нет», а ксёндзы всего-лишь исполняли служебные обязанности.
Итак, Женька верила, что мир прекрасен и удивителен, что впереди полно приключений, что Красные Шапочки могут безнаказанно разговаривать с волками, что childfree – это ее философия не на ближайшие десять лет, а на всю жизнь, что и секса-то никакого не надо, что похмелья не бывает, что хуже брака только смерть, да и вообще жизни слишком мало, чтобы на чем-то долго заморачиваться. И он, когда оказывался рядом с ней, вдруг тоже начинал верить во всё это, становился почти персонажем из фильмов Кустурицы, а еще ни на чем не настаивал и забывал все слова, которые хотел сказать на их очередной, редкой, встрече.
Поэтому она и насиловала его в голову, всё больше и больше упиваясь безнаказанностью этого акта, а он, будучи безо всяких сил сопротивляться, не то чтобы даже получал от этого удовольствие, но уже не мог отказаться, тем более видя, что с каждым произнесенным словом она влюбляется в него всё сильнее. Он иногда пытался сказать ей что-то по-настоящему важное, если вдруг в голову приходила какая-то мысль, но по итогам видел перед собой, вместо Женьки, какого-то муви-зрителя. А зритель смотрел свой мувик, а в мувике был персонаж и его сюжетная роль, а то, что он произносил как бы вне сюжета, воспринималось на уровне обычного «бла-бла-бла» – фильм-то был не Бергмана, а чисто КСП-хом-видео: не поговорить, а поскакать, побегать, пострелять, пообниматься, потанцевать и попеть. Т.е. он в ее глазах был совсем не тем персонажем, над могилой которого Беня Крик говорил «он много жил и много понял», а, скорее, какой-то танцующей цыганщиной. Разрушить ее представление о себе было невозможно. Равно как и получить доступ к телу где-либо еще, кроме палаточно-туристических мест или, на худой конец, среди поля, в горах, в лесах, на крыле пароплана, на куполе падающего парашюта или на доске для серфинга прямо в волнах. Или на лыжах на горном спуске.
И здесь ничего не помогало. Даже удивительно романтическое стихотворение, которое Егор не только написал для нее, но и умудрился прочитать вслух, в самой что ни на есть подходящей для этого, на его взгляд, обстановке – они были вдвоем и у нее дома.
– Я влюблен в твои ноги, а еще в между них, и так далее…
А еще в эту грудь, в эти бедра и в этот живот,
В этот рот и в симметрию контура талии,
В ягодиц полушарья и, конечно же, в задний проход.
Каменеет сосок. Под коленкой пульсирует жилка,
Наливается грудь, твои пальцы уже теребят,
И с закрытием век – в пустоту открывается дырка,
А заполнив ее, я наполню собою тебя.
Я целую запястье, подбородком уткнувшись в ладошку,
Я гуляю пешком по гладкой дорожке спины,
Я ругаю тебя как собаку и глажу как кошку,
Сплю в твоих волосах и смотрю о тебе эти сны.
– Угу, – сказала Женька и ушла на кухню заваривать чай. Тогда Егор написал другие стихи, которые, ей, правда, уже читать не стал:
Я то в серости, то в борзости,
А не в трезвости и твердости,
Кофе не приносит бодрости,
Как друзья с работой гордости.
Положите мне под елочку ее!
Можно сразу на постельное белье,
Чтобы замерли и рыбы, и зверье,
Даже в небе чтоб зависло воронье!
Заберите эту суку, Е*еня,
Что полезла в генеральный план меня,
Где была в нем ясность – вдруг х*йня,
Где была дорога – вдруг лыжня…
Отбухалось, отлюбилось, отъеб*ось.
И в глазах не мировая скорбь, а злость.
И уже не в горле, в ж*пе – кость.
Значит, вышло, получилось, удалось.
Понятное дело, ничего не вышло и даже не «отлюбилось», но конкретно Егору стало как-то полегче. По крайней мере, с одним вопросом возникла хоть какая-то ясность – можно было спокойно ждать, пока она повзрослеет. В нашем мире вдруг появилось поколение, которое иначе, чем люди продленного детства не назовешь – выдержки западных учебников по психологии в глянцевых журналах сообщали нам, что «нормальный период детства длится до 20 лет», а, тем временем, к 20 годам многие из нас уже успевали развестись, родить детей, отсидеть в тюрьме или поучаствовать в ОПГ, купив попутно более-менее приличного «коня» или квартиру, если случилось выжить. А теперь на личном опыте понимаешь, что-то здесь такое растет, что совсем не похоже на тебя.
За последние два года Егор заработал почти пол-лимона и, с учетом что машина у него была, квартиру в Киеве он купил еще на предшествовавшие этой сумме деньги и в ближайшие два года рассчитывал заработать столько же, в голову лезли определенно оседлые мысли. Тем более, что способ заработка не был ведь устроен по принципу бесконечности, а необходимость тратить все больше на поддержку уровня жизни росла пропорционально с ростом доходов. «Потолок» был как-то так неприлично ощутим, что чувство «миллионов не будет, а сотни тыщ – придут и уйдут» его не покидало. Поэтому можно было купить приличный коттедж, еще одну машину, ну, а продав квартиру – получить деньги для того, чтобы начать заниматься чем-нибудь совсем своим, открыть пару кафе и торговать в них собственноручно изготовленными пирожками, ага. Пусть упав на «десятки тыщ», но безрисковые и бесконечные, а на прибыли эти кормить семью, которую, в общем-то, было уже пора образовывать. Больше ничего не хотелось, героического прошлого хватало, а настоящее и так было чрезмерно авантюрным. Вот Женькой он как раз в смысле будущего и интересовался.
А мемуары о нем пусть пишет… ну хотя бы уборщица. Эта выдающаяся женщина, приходящая два раза в неделю ранним утром, всегда умудрялась застать Егора в самом разобранном состоянии, какое можно было только придумать: завернутый в простыню, небритый и сонный, не понимающий где он находится, а самое главное, что он вообще здесь, конкретно в реальности, делает – Егор открывал ей дверь и, натягивая джинсы, отправлялся завтракать, потому что оставаться дома было бы стыдно. А еще невозможно, с учетом любви Татьяны к обсуждению способов жизни (и утреннего пробуждения!) одних своих клиентов с другими своими клиентами, причем добрая женщина даже, наверно, и не подозревала, что здесь, в Киеве, все со всеми знакомы и такое обсуждение является откровенным способом испортить кому-то жизнь. Собственно, и отношения Егора с соседями портили вовсе не ночные попойки, а именно что утренний спуск по лестнице с 5 этажа, омраченный всем этим «здрасьте-здрасьте» с благообразными, свежеумытыми, хорошо одетыми людьми, которые энергично выходили из своих квартир по своим бодрым делам.
Зато при повороте с Шелковичной на Институтскую наступал моральный реванш и Егору было уже все равно, как он выглядит и что было вчера. Обычно это происходило ровно в 8.55, потому что уборщица, обязанная приходить к 9 утра, приходила всегда к 8.45, а десяти минут ему хватало, чтобы проснуться, открыть, одеться, спуститься и выйти на улицу. Каждый раз в это время он шел по Институтской по направлению Майдана и всегда был почти один против огромной толпы не менее свежих и бодрых, но куда как хуже одетых людей, которые шли в Кабмин, в министерства и управления, в Раду с ее комитетами и прочие государственные конторы ровно на 9 утра. Они шли на работу, а Егор шел завтракать. И от одной этой мысли становилось хорошо.
Вариантов завтрака было немного – либо «Корифей» с «Феллини», либо «Шато», если в последнем он не пил накануне. Вариантов ночи, впрочем, тоже особо не предполагалось: в Киеве все еще нет клубов и нет культуры клубной жизни, если под последним не подразумевать термин «дискотека под наркотики», а поэтому и приходится курсировать между 3-мя ресторанчиками в центре. Не считая пафосных «Ле Гран Кафе», «Конкорда», «Велюра» и «Сюрприза», где полагалось встречаться с министрами и олигархами, а также сетевых ресторанов сетей «Козырная карта» и «Мировая карта», где полагалось просто вкусно есть. «Феллини» – было местом оперативных встреч и деловых свиданий, прозванное в народе «депутатская столовая», а «Корифей», расположенный напротив, его своеобразным филиалом, где на порядок тише и уютнее, но разницы между двумя этими ресторанами никто никогда не делал, за исключением времени работы – «Феллини» круглосуточен. А «Шато» – это также все время открытая пивная на Крещатике, куда полагается ходить за бесплатными девушками по вечерам и завтракать по утрам в теплое время года. Платные девушки располагались в других местах, но, как мы уже писали, Егор, за исключением случая в тамбуре, предпочитал действовать личным обаянием, поэтому мест толком и не знал. Экспертом по платной любви считался его старший приятель, политтехнолог Гриша, о котором ходила удивительная история: снятая за 200 долларов на ночь проститутка, в 4 часа утра вернула Грише деньги, прослезившись и раскаявшись. Он, решив для начала с ней «а поговорить?», поведал про моральный императив, Канта и Бердяева, а также рассказал о тщете всего сущего. К счастью, сборщик податей просто бросил деньги на дорогу, обошлось без ученичества и стенограмм – вернув 200 баксов Грише, проститутка всего-лишь грустно ушла.
А вот в отношении девушек из «Шато» Егор разработал безотказный метод съема, который и практиковал время от времени от крайней тоски. Дело в том, что в пивоварню системно приводят выгуливать своих иностранцев милые украинские девушки, которые массово занимаются их «разводом» по Интернету. Эту банду стоило бы назвать «невесты из Украины», если б не факт, что кавычки здесь не нужны – девчонки действительно не прочь выйти замуж, но, к сожалению, в их сети попадают какие-то уж совсем очевидные уроды. Когда эти уроды приезжают знакомиться с невестами, их селят, как правило, в гостинице «Украина» (бывшей гостинице «Москва») на Майдане, а дальше ведут в «Шато» ужинать, потому что появляться в других местах с этими лучшими представителями всех пороков человеческих – девочкам стыдно. И вот пока дойч или пиндос весело напивается, еще не понимая что никаких радостей плоти ему сегодня предоставлено не будет, та, что потом под гостиницей начнет искренне и безапеляционно произносить ему бессмертное «я девушка честная», уныло сидит и скучает, не зная куда девать глаза от позора. И в этот момент она смотрит на тебя, а ты понимающе улыбаешься. Только вот без наигрыша, без стёба – ну, понятно, жизнь такая, вот красавица, а вот чудовище, и ничего между ними не будет, во всяком случае, не сегодня, и никакой это не эскорт и не проституция, ну а просто получилось так. И вот с неизбежностью вы вдвоём начинаете стебать этого ее иностранца. Улыбками, взглядами, жестами, потому что вы молоды, хитры и сильны, а еще соотечественники… А потом они встают и уходят, а ты ведь знаешь, что минут через 15 она вернется к тебе. Плюхнется за твой столик, улыбнется, скажет что-то вроде «Уф, ну и урод попался…», а ты скажешь что-нибудь в ответ, а потом, слово за слово, и у твоей уборщицы наутро вновь появится очередной эпизод для мемуаров о тебе или рассказов в кругу тех, у кого она убирает: «А Егор, представляете, вчера опять учудил – захожу, а там чьи-то стринги на ручке холодильника висят?!».
Дмитрий Белянский, © 2008, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».