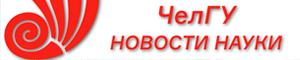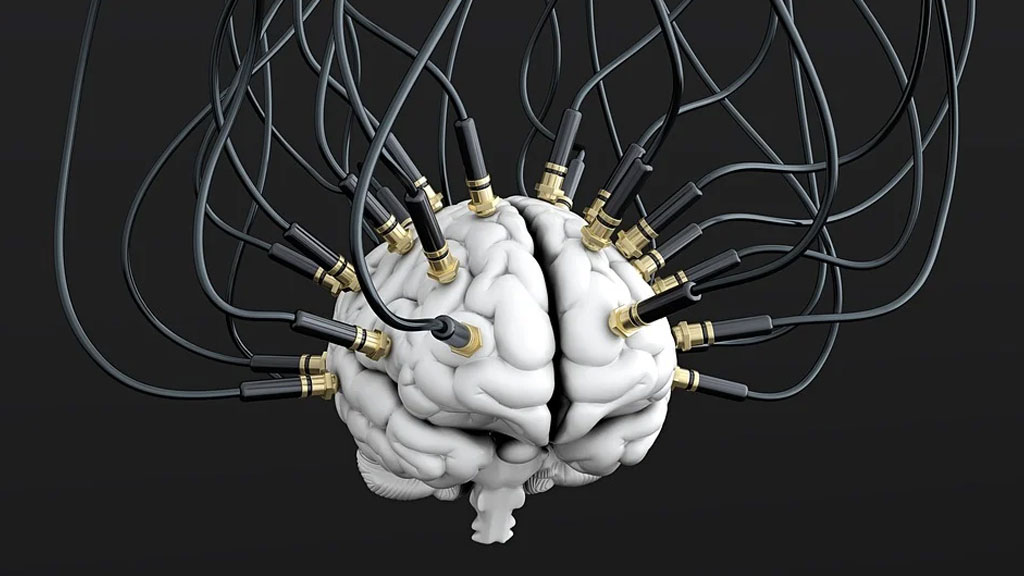Сегодня – необычный юбилей. 185 лет назад Александр Сергеевич Пушкин возвел самую живучую высокохудожественную «напраслину» на известного итальянца – венского композитора, дирижера, исполнителя, педагога Антонио Сальери. NDNews.ru предлагаает читателям с помощью экспертов разобраться, почему Пушкин это сделал и мог ли на самом деле Сальери отравить Моцарта.
Кира Красинская, историк культуры:
История началась в глухом русском Болдино. АСП закончил один из шедевров осени 1830-го года – миниатюрную (по объему) трагедию «Моцарт и Сальери». И с тех пор отечественного обывателя толпы авторитетнейших музыковедов и историков культуры не могут разубедить в обратном: мол, никогда никого, в том числе и Моцарта, добрый, талантливый и успешный Сальери не травил… «Как это не травил – очень даже отравил, – искренне возмущаются россияне, – ведь Пушкин написал!» С легкой руки гения нашей словесности имя Сальери стало нарицательным обозначением завистника и посредственности. При этом Пушкин Антонио Антониевича таким вовсе не писал! Ну, что ж, попробуем разобраться в этом отдельно взятом «кто на ком стоял» (как сформулировал другой родной классик) с позиции и нашего времени, и, прежде всего, эпохи Пушкина, который, между прочим, родился через 8 лет после смерти Вольфганга Амадея и четверть века был современником Сальери.
Литературоведы относят замысел произведения к пребыванию поэта в Михайловском в 1826 г., ориентируясь на свидетельства современников: на третий день по приезде Пушкина в Москву, 11 сентября 1826 г., Погодин записал в своем дневнике:
«Веневитинов рассказал мне о вчерашнем дне. Борис Годунов – чудо. У него еще Самозванец, Моцарт и Сальери, Наталья Павловна, продолжение Фауста, 8 песен Онегина и отрывки 9-й и проч.».
По-видимому, замысел «Моцарта и Сальери» настолько «созрел» у Пушкина в это время, что друзья, по его сообщениям, решили, что пьеса уже написана.
Однако, основная работа над драматургической «дюймовочкой» приходится на 1830 г. Закончил же ее Пушкин 26 октября. Болдинская рукопись до нас не дошла, сохранилась лишь обложка с написанным поэтом заглавием: «Зависть». Исследователи полагают, таков был один из первоначальных вариантов названия трагедии. В одном из списков «маленьких трагедий» при ее названии помечено: «с немецкого», т.е. АСП задумывал очередную литературную мистификацию.
Написав пьесу, Пушкин не спешил её публиковать, хотя знакомил с ней (как и с другими маленькими трагедиями) некоторых друзей. В конце 1831 года пьеса была опубликована в альманахе «Северные цветы на 1832 год». В дальнейшем именно по этой публикации и перепечатывался текст «Моцарта и Сальери».
Что же касается сценической судьбы трагедии, то на ее долю выпало немного постановок, еще меньше – удачных. Часть режиссеров отказывалась понимать, как такую «головную» «масяпуську» можно превратить в занимательный спектакль. Другая, но это больше касается нашего времени, ставила над великим трио – Моцарт, Пушкин, Сальери – смелые, но мало оправданные, с точки зрения конечного результата, эксперименты.
«Моцарт и Сальери», кстати, единственная пьеса Пушкина, поставленная при его жизни. 27 января 1832 года, «с согласия автора», маленькую трагедию давали в Петербурге, в бенефис Якова Брянского, сыгравшего в этой постановке Александринки Сальери. Спектакль был повторён 1 февраля того же года. Известно, что Пушкин в это время находился в Петербурге, но сведений о том, присутствовал ли он на спектаклях, нет. Успеха постановка, вероятно, не имела – анонимный рецензент писал, что «сцены «Моцарт и Сальери» созданы для немногих».
Сыгранная дважды, больше пьеса при жизни АСП не ставилась.
И в дальнейшем к ней обращались нечасто. Обычно «Моцарта и Сальери» играли с другими маленькими трагедиями Пушкина. Известно, например, что в 1854 году на сцене Малого театра в образе Сальери предстал Михаил Щепкин. В 1915-м году Станиславский поставил «Моцарта и Сальери» (вместе с «Пиром во время чумы») в Художественном театре, он же исполнил и роль Сальери, которую считал своей актёрской неудачей
Сергей Бонди – отличный текстолог, пушкинист (не до конца, к счастью, советский) «непонимание подлинного содержания» этой маленькой трагедии объяснял нежеланием театральных деятелей видеть в «Моцарте и Сальери» пьесу, написанную не для чтения, а для представления на сцене. Дескать, и художественное, и смысловое, идейное, сюжетное содержание сочинения, предназначенного для театра, заключено не только в словах, но и в выразительных действиях персонажей, жестах, мимике, в их речи, внешнем виде, включая костюмы, наконец, в декорациях и звуковом оформлении спектакля. Мол, АСП, создавая свои пьесы, всегда имел в виду их исполнение на сцене. Авторитетному эксперту «противоречит» филолог Ирина Сурат, обращая внимание на то, что Пушкин свои маленькие трагедии публиковал среди лирических стихотворений.
Возможно, само «нежелание» оценивать и эту, и другие маленькие трагедии как сочинения для театра было связано, не в последнюю очередь, с их непростой сценической судьбой. Вероятно также, что универсальность пьесы, ее популярность среди читателей не нуждалась, по мнению литературоведов, в обретении « Моцартом и Сальери» второй – сценической жизни. Зато музыкальная судьба композиторов-венцев «сложилась»: в 1897 году Римский-Корсаков на основе маленькой трагедии Пушкина создал оперу «Моцарт и Сальери». Произведение ставят до сих пор по всему миру. Ну, кроме Северной Кореи с Ганой, да Италии, где такой поклеп на соотечественника неприемлем и нестерпим.
В советское время вместе со «Скупым рыцарем» и «Каменным гостем» пьеса вошла в спектакль «Маленькие трагедии», поставленный Леондом Вивьеном в 1962 году в Лениградском театре драмы им. А.С. Пушкина с Николаем Симоновым в роли Сальери. По мнению многих, проект, мягко говоря, получился тяжеловатым и претенциозным. В 1971-м году Леонид Пчелкин и Антонин Даусон создали более симпатичную телевизионную версию этого спектакля, в которой Моцарта сыграл Иннокентий Смоктуновский.
В 1914 году пьеса была впервые экранизирована Виктором Туржанским, достаточно вольно (среди персонажей появилась Изора – по версии пушкинской пьесы возлюбленная Сальери, 18 лет назад преподнесшая ему последний дар любви – яд) под названием «Симфония любви и смерти». Эта «фильма», увы, не сохранилась.
В 1979 году «Моцарт и Сальери» стала составной частью телесериала Михиала Швейцера «Маленькие трагедии», где Смоктуновский уже предстал в образе Сальери. В образе пушкинского помешанного, к слову, он был также органичен, как и в роли райской птички Моцарта в спектакле Пчёлкина – Даусона.
Вера Владимирова, филолог:
Маленькие преемники европейской литературы
О «Маленьких трагедиях» Пушкина написано огромное количество исследований. Зачастую само это название приводится в текстах без кавычек, словно бы речь идет о неких несущественных по своему содержанию произведениях, о чем, якобы, свидетельствует небольшой объем этих пьес. Но нельзя забывать, что авторское наименование цикла звучало совсем иначе – «Опыт драматических изучений» – и все не так просто и формально, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, пьесы писались долго и трудно, «прорыв» произошел у АС лишь осенью 30-го, не без виртуального, как сказали бы сейчас, участия европейских коллег.
Опыт, как его понимал Александр Сергеевич, это, во-первых, нечто уже понятое и принятое в процессе осмысления жизни или искусства. Во-вторых, опыт – это эксперимент, моделирование определенной ситуации с целью получения информации, соответствующей задачам проводимого опыта. Так сказать, драматическое изучение. Драматическое – и как указание на форму литературного произведения, и как результат изучений. Доподлинно неизвестно, какие еще нюансы имел в виду сам автор цикла. К тому же, имели место и другие пушкинские наименования тетралогии, например «драматические очерки» и «драматические сцены». Но к этой теме чуть позже мы еще вернемся.
Все четыре «Маленькие трагедии» (именно это название стало «официальным» – выбранным при первой публикации на основании фразы из письма А.С.Пушкина) написаны в период легендарной «болдинской осени», а задуманы лет за пять до воплощения. В цикл вошли пьесы: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».
Пушкинист Дмитрий Благой полагал, что в затянувшем процессе работы над «маленькими трагедиями» катализатором стали «Драматические сцены» Барри Корнуолла. Пьесы входили в собрание сочинений четырёх английских поэтов, что Пушкин читал в Болдине. Стремление Корнуолла к «выражению естественных чувств» и готовность ради этой естественности пожертвовать «поэтическими описаниями» были близки поэтике АС. Он вообще называл Корнуолла одним из любимейших писателей. Известен и пушкинский перевод стихотворения старшего английского коллеги «Пью за здравие Мери».
Пушкин и Корнуолл
Буквально пару фраз про крестного «Маленьких трагедий». Брайан Уоллер Проктер (таково настоящее имя этого английского поэта и драматурга) – адвокат по профессии, многие годы заведовал домами для умалишённых. Отчасти по этой причине, его «Сцены», посвящённые изображению человеческих страстей, отличались, как указывал сам автор в предисловии к ним, «странностью вымысла». Писателя- юриста привлекали исключительные с точки зрения психологии фабулы и положения, проявления человеческой психики, граничащие с патологией.
Исследователи отмечают очевидное сходство драматургической конструкции пьес Пушкина с сочинениями Корнуолла. Драматизированные психологические этюды английского писателя, состоящие из нескольких сцен (от одной до четырёх), при намеренно ограниченном числе персонажей, сочетают напряженность внутреннего движения страстей с предельной скупостью в отношении внешней формы. К подобному соотношению формы и содержания Пушкин стремился еще со времен своей «Сцены из Фауста».
Д. Благой обнаруживает некое сходство в сюжете: «Моцарт и Сальери» перекликается с «Лодовико Сфорца» Корнуолла: фабула пьесы основана на двойном отравлении. Между двумя произведениями можно обнаружить и непосредственные текстуальные совпадения. Например, у Пушкина Сальери восклицает: «Постой, / Постой, постой!.. Ты выпил!.. Без меня?» – у Корнуола в сцене второго отравления Изабелла вопрошает: « Ho – разве, разве ты будешь / Пить без меня?»
Да и монолог Сальери, по мысли АС представляющий собой единое целое, в пьесе рассредоточен – разбит на три части вовсе неслучайно. Продолжающийся на протяжении всей «маленькой трагедии» монолог несет не только композиционную нагрузку (в начале, в середине и в конце эти фрагменты единого потока сознания словно обрамляют диалогические сцены), но и концентрирует степень порока: зависть Сальери Пушкин подаёт как уже сложившуюся психическую аномалию, давно и устойчиво владеющую душой музыканта.
Впрочем, не только английские современники, но и наследие классиков британской и французской литературы повлияло на драматургию маленьких трагедий Александра Сергеевича. «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах», – так Пушкин в тот период формулировал для себя основные требования к драматургу. Как и все его драматические произведения, пьеса «Моцарт и Сальери» написана белым пятистопным («шекспировским») ямбом. Специалисты отмечают в структуре маленьких трагедий и большее влияние французского классицизма, прежде всего, поэта и драматурга Жана Расина. Именно у Расина Пушкин находил «преимущество перед Шекспиром в строгости и стройности отделки». В «Моцарте и Сальери» соблюдено «завещанное» Расином и единство действия, времени и слога.
«Ненавижу неточность, обожаю легенды»
Вероятно, более вменяемого объяснения пушкинскому решению «использовать» анекдот об отравлении Моцарта его коллегой Сальери в своих «драматических опытах», чем эта, лишь на первый взгляд парадоксальная, фраза Цветаевой, не сыскать. Тем более, что о том, как складывался замысел «Моцарта и Сальери», достоверных сведений нет. В сохранившейся среди пушкинских бумаг записи, сделанной предположительно не раньше лета 1830 года, Пушкин, имея в виду байку об убийстве Моцарта коллегой, ссылался на «некоторые немецкие журналы». Однако ремарку нельзя считать непреложным указанием – это, вполне себе может быть «фундамент» для задуманной мистификации. Впрочем, некоторые критики полагают, что Пушкин мог сослаться на немецкие журналы, не указывая их более точно с целью дезориентировать своих оппонентов, критикующих легендарную основу сюжета, и подобно тому, как и всю пьесу, он первоначально хотел выдать за перевод с немецкого, переложить ответственность за неё на немецкие источники.
Саму же сплетню о Сальери-отравителе Александр Сергеевич прочитал в 1824-м году в Одессе, но, скорее всего, не в германских, а во французских изданиях. Первоначально навет появился и вправду в немецкой прессе, но немецкий Пушкина, по его же признанию, был « недостаточно хорош», так что, вряд ли его источник родом из «Німеччины».
«Родился» же ядовитый слух в Вене (откуда и распространился со скоростью чумы по всей Европе), спустя 30 с лишним лет после смерти Моцарта: якобы, знаменитый композитор, придворный капельмейстер Сальери, находившийся в то время в психиатрической лечебнице, сознался в убийстве. Этот слух был подхвачен газетами, в частности, «Берлинской всеобщей музыкальной газетой», а позже перепечатан во французской «Journal des Débats», читателем коей и был русский поэт Александр Пушкин.
Публикация в прессе слухов, порочащих весьма известного, к тому же умирающего музыканта и педагога (в числе учеников Сальери – Бетховен и Шуберт) тогда же, в 1824 году, вызвала ряд опровержений, в том числе, со стороны хорошо известного в России композитора и музыкального критика Сигизмунда Нейкома. Его письмо, опубликованное в «Берлинской всеобщей музыкальной газете», а затем и во французской прессе начиналось словами: «Многие газеты повторяли, что Сальери на смертном одре признался в ужасном преступлении, – в том, что он был виновником преждевременной смерти Моцарта, но ни одна из этих газет не указала источник этого ужасного обвинения, которое сделало бы ненавистной память человека, в течение 58 лет пользовавшегося всеобщим уважением жителей Вены». Непосредственно же по поводу взаимоотношений Сальери и Моцарта, Нейком сообщал: «Не будучи связаны друг с другом тесной дружбой, Моцарт и Сальери питали друг к другу такое уважение, которое друг другу взаимно оказывают люди больших заслуг. Никогда никто не подозревал Сальери в чувстве зависти». В итальянских изданиях с опровержением слухов (также перепечатанным французской газетой) выступил известный поэт и либреттист Джузеппе Карпани. Пушкин должен был успеть прочитать в Одессе в одних и тех же изданиях и слух о признании Сальери, и его опровержение.
Надеюсь, как и многие литературоведы на протяжении уже почти двух веков, что эта сплетня была не единственным и, что важнее, не главным источником пушкинского вдохновения. Замысел же сделать этот слух фабулой произведения о взаимоотношении двух типов творчества, у АС, видимо, начал оформляться после смерти Сальери – в 1825 году.
Новости «Новый Регион – Челябинск» в Facebook*, Одноклассниках и в контакте
По некоторым данным, Пушкин считал факт отравления Моцарта его другом Сальери установленным (хотя и не без оговорки) и психологически вполне вероятным. В «Заметке о Сальери» Пушкин пишет: «В первое представление «Дон-Жуана», в то время когда весь театр, полный изумлённых знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Салиери вышел из залы – в бешенстве, снедаемый завистью... Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении – в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать «Дон-Жуана», мог отравить его творца».
«Только этим обстоятельством, – говорилось в изданных П. В. Анненковым «Материалах для биографии А. С. Пушкина», – можно объяснить резкий приговор Пушкина о Сальери, не выдерживающий ни малейшей критики. Вероятно, к спору, тогда возникшему, должно относиться и шуточное замечание Пушкина: «Зависть – сестра соревнования, стало быть, из хорошего роду».
Между тем, и история о Дон Жуане, описанная АС, фактологически не выдерживает никакой критики. Общеизвестно, что «Дон Жуана» Моцарт писал для Праги, где и состоялась премьера. Опера имела успех, но Сальери на пражских представлениях не присутствовал, поскольку находился в это время в Вене. Как считает исследователь Марио Корти, слова «безмолвно упивался гармонией» даже для Праги являются романтическим преувеличением: публика XVIII века в театре вела себя достаточно свободно, зрители во время представлений могли и пить, и ужинать, и даже играть в карты; в ложах частенько устраивали любовные свидания. Едва ли не половина зрителей лишь время от времени интересовалась происходящим на сцене.
В Вене опера Моцарта встретила весьма прохладный приём у публики, не понравилась она и многим коллегам Вольфганга Амадея, например, Бетховену (скромно прошепчу, что и мне «Дон Жуан» как-то не очень…). Что же касается Сальери, то именно о его мнении абсолютно ничего неизвестно. Дело в том, что он имел (и заслуженно) репутацию величайшего музыкального дипломата – именно потому, что предпочитал никак не высказываться о сочинениях своих современников (за исключением Глюка); а его высокое положение, тем более, диктовало достаточно жесткий кодекс публичного поведения, так что свистеть в храме искусств воспитанный и вежливый капельмейстер, ну, никак не мог. Возможно, что недоброжелатели вплели «Дон Жуана» в ткань сплетни об отравлении на основании того, что о Дон Жуане Сальери промолчал, но сформулировал своё – весьма лестное, к слову, мнение о других сочинениях Моцарта (так, он считал лучшей его оперой « Свадьбу Фигаро», а мнение Сальери о «Волшебной флейте» мы, к счастью, знаем от самого Вольфганга Амадея, пригласившего Сальери вместе с его ученицей – певицей Кавальери на представление оперы и отчитавшегося об этом жене 14 октября 1791 года: «Ты не можешь себе представить, как оба были любезны,– как сильно им понравилась не только моя музыка, но либретто и всё вместе. – Они оба говорили: Опера достойна исполняться во время величайших торжеств перед величайшими монархами, – и, конечно, они очень часто смотрели бы её, ибо они ещё никогда не видели другого более прекрасного и приятного спектакля. – Сальери слушал и смотрел со всей внимательностью, и от симфонии до последнего хора не было ни одной пьесы, которая не вызвала бы у него [восклицания] bravo или bello (мило)»).
Но в том-то все и дело, что Пушкин увлекся не подлинными историческими персонажами, а возможностью привлечь громкие европейские имена и связанные с ними «обстоятельства» и « возможности» в свои «опыты».
От анекдота до абсурда.
Тем не менее, легкомысленно написав, что освиставший шедевр мог отравить его творца, Пушкин вызвал упреки в дискредитации уже ставшего историей персонажа. А ведь в одной из своих статей поэт замечает: «Нравственное чувство, как и талант, дается не всякому», полагая, что художник не должен этому чувству изменять. Критик и литератор Павел Катенин – современник поэта – осуждал пушкинское произведение «потому, что на Сальери возведено даром преступление, в котором он неповинен», называл пьесу клеветой и настаивал на том, что «писатель должен еще более беречь чужое имя, чем гостиная, деревня или город».
Этическая сторона вопроса беспокоила не только Катенина; например, искусствовед и художник, князь Григорий Гагарин писал матери в 1834 году: «Я спросил Пушкина, почему он позволил себе заставить Сальери отравить Моцарта; он мне ответил, что Сальери освистал Моцарта, и что касается его, то он не видит никакой разницы между «освистать» и «отравить», но, что, впрочем, он опирался на авторитет одной немецкой газеты того времени, в которой Моцарта заставляют умереть от яда Сальери».
Возражение, сформулированное Катениным, оказалось настолько живучим, что даже в наше время литературоведы чувствуют необходимость защитить Пушкина. Но многие лишь подливают масла в огонь, как, например, Бонди: «Вопрос не в том, так ли точно все было в действительности, как показывает Пушкин в своей трагедии, а лишь в том, не оклеветал ли писатель (из художественных соображений) ни в чем не виноватого «благородного» композитора? В данном случае важно то, что Пушкин был вполне убежден в виновности Сальери и имел для этого достаточные основания». Извините, конечно, но в таком щекотливом вопросе недостаточно одной уверенности – нравственное чувство должно быть чутче.
Недоумение обостряется еще более, если учесть, что отношение Пушкина-писателя к изображению исторических персонажей совершенно совпадает с позицией Катенина: «Обременять вымышленными ужасами исторические характеры – и не мудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах казалась мне непохвальною». Так что, дело не в уверенности. В пушкинской «Заметке о Сальери» говорится, что «на одре смерти признался он будто бы в отравлении великого Моцарта». Это «будто бы» и выдает всю меру осторожности Пушкина по отношению к самому факту. Юридически он не установлен, и верить в него нельзя. Да Пушкину это и не было нужно. Он ведь не исторический опус создавал, а экспериментировал. На европейском материале создавал драму на родном языке, точнее, «закладывал основы современной русской драматургии», если угодно.
А поэту « вменяют в вину» категории из совершенно иных сфер. Ведь, уважаемая читающая публика, Ричард III тоже не был таким исчадием ада, как его изобразил Шекспир – не доказано, что именно он велел придушить малолетних племянников- принцев, а детские трупики закопать под дворцовой лестницей! Это национальный поэт Англии для пущего эффекту расцветил свою трагедию сплетней об окутанном тайнами восшествии короля на престол! А на самом-то деле, Ричард – последний Плантагенет – был выдающимся воином и вполне себе человеколюбивым правителем: после коронации велел выпустить всех заключенных из темниц. Он и горбуном не был, как написал великий бард, так, «немного некрасив». Этот правитель даже погиб в бою – у англичан всего 2 таких короля… У нас, правда, вообще ни одного, своей-то смертью умерли единицы: или «сами» взорвем правителя – «Освободителя», или придворные пустят в ход «шарф и табакерку», или жена организует «преждевременную» отставку мужа, или революционные «оторвы» устроят бойню в свердловском подвале…
Но это я отвлеклась. Тема такая: нешуточные страсти и великие люди на фоне исторических реалий, рассказанная изумительным рассказчиком- мистификатором и философом одновременно. Ведь Пушкин «запустил» в «Моцарта и Сальери» три, как сказали бы сейчас – сплетни, или, как говорили в его эпоху – три анекдота: о Сальери, о Бомарше (который, тоже, вроде бы, «кого-то отравил») и о Микеладжело Буонаротти, якобы, умертвившем натурщика дабы точнее написать муки распятого Христа! Само количество анекдотов подчеркивает литературный прием, переводя тем самым разговор из нравственной плоскости, с исторической почвы на литературную территорию. Недостоверность легенд о Бомарше и о Буонаротти выявляется в ходе пьесы не с помощью юридических доказательств, а через отношение к ним действующих лиц – Моцарта и Сальери. Достоверность легенды о них самих, следовательно, тоже категория художественная. Именно это имеет в виду Анненков, возражая Катенину: «Никто не думает о настоящем Сальери». Однако люди, не имевшие тогда представления о композиторе и педагоге Антонио Сальери и не знающие об этом сегодня, думали и думают именно о нём, и потому вновь и вновь приходится объяснять, что настоящий Сальери не травил Моцарта ядом.
В «пробном» томе ПСС Пушкина в 1935 году сплетня об отравлении упоминалась как «отброшенная исторической критикой», но в желающих подобрать отброшенное наукой никогда недостатка не было. Так, советский музыковед, публицист и композитор Игорь Бэлза издал в 1953 году книгу «Моцарт и Сальери, трагедия Пушкина, драматические сцены Римского-Корсакова», которую создавал на современном ему фоне печально знаменитого «дела врачей». И в его «интерпретации» пушкинский сюжет приобрёл просто зловещий смыcл: «...Великий зальцбургский мастер был не только гениальнейшим композитором, а и художником нового, демократического типа, рождённым эпохой великих социальных сдвигов, творившим для народа, жившим одной жизнью с народом и получившим такое всенародное признание, которого до него не заслужил ещё ни один композитор. Вот почему Сальери, презиравший народ... испытывал смертельную ненависть к Моцарту... Сальери действительно видел в Моцарте своего идейного врага... Моцарт вырвался на улицы и площади, стал мастером-трибуном. Вот кого возненавидел Сальери, вот кого он решил отравить».
Ну, не буду утомлять вас эмоциональными идеологемами из этой одиозной работы, замечу лишь, что далее Бэлза проводит параллель между Пушкиным, погибшим «от пули иноземного выродка», и Моцартом, отравленным «пригретым при дворе Габсбургов чужеземцем».
Думаю, Пушкин бы вздрогнул, прочитав этот триллер. Как, вероятно, вздрогнул бы и Моцарт, прочитай он пассаж Бэлзы, да и маленькую трагедию Пушкина, где его травит приятный и неоднократно помогавший ему коллега. Но тут уж ничего не попишешь, как сформулировал один из современных исследователей про выпущенные в свет книжки: «автор умер, родился читатель».
Но, возвращаясь к выбору Пушкина-художника, процитирую еще одного, во многом родственного нашему «солнцу» автора – французского писателя Проспера Мериме, признающегося в предисловии к одному из своих трактатов: «Я люблю в истории только анекдоты, а среди них я предпочитаю те, в которых рассчитываю найти верное изображение нравов и характеров определенной эпохи».
Пушкин, конечно, понимал, что его ждут обвинения в нарушении «нравственного чувства», и все-таки не отказался от использования анекдота о Моцарте и Сальери. Более того, он вынес эти имена в заголовок пьесы, заменив им первоначальное название «Зависть».
Известно, что Пушкиным для « Моцарта и Сальери», кроме «Зависти», рассматривался вариант названия «Сальери». Первый заголовок он отбросил как абстрактный и размытый, и одновременно – узкий и тесный, излишне прямолинейный. Второй вариант тоже показался ему недостаточно широким и точным. Безупречным стал «Моцарт и Сальери», объединивший имена героев пьесы. Не по отдельности, не по принципу разделения «или – или», а только в своем союзе, слиянии двух разных подходов к важнейшим вопросам искусства, связанные тайной этого самого «и».
Вообще, в этом желании Пушкина написать пьесу о двух творческих противоположностях чувствуется некоторое упорство. Видимо, АС было важно понять логику характеров художников, позволяющую, в свою очередь, изучить и породившую их историческую действительность. Повторюсь еще раз: недаром Пушкин называет маленькие трагедии «Опытом драматических изучений». Его занимали именно возможность и вероятность совершения самыми интересными представителями исторической эпохи определенных действий.
И еще замечу, по поводу «бесцеремонного» обращения Пушкина с репутацией Сальери: все-таки ничего даже в благих творческих намерениях не проходит даром. «Шутку», что поэт сыграл с капельмейстером, превратив его в убийцу, судьба, а точнее, некоторые друзья АС, повторили с коллегой Пушкина – поэтом Евгением Баратынским. Из-за неосторожного и неумного высказывания Нащокина, слух о зависти Баратынского к таланту Пушкину и даже версия о том, что Евгений Абрамович и выведен под именем Сальери, отравили чуть ли не 10 последних лет жизни этому тонкому и застенчивому человеку, чей талант и симпатию сам АС чрезвычайно высоко ценил, и чье творчество стало своеобразной библией для поэтов Серебряного века.
Третьим будешь…
А теперь о том, как образ пушкинского Сальери изменили …пушкинисты. Ведь Александр Сергеевич своего Антонио Сальери не писал завистливой и коварной посредственностью.
Прежде всего, Сальери, по своей природе, в «маленькой трагедии» не завистник:
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда!
Между прочим, первая часть монолога Сальери давала повод некоторым театральным критикам, режиссерам и даже литературоведам утверждать, что он отравил Моцарта не из зависти, а из ложно понятого чувства долга. Так, «идейным убийцей», который, как никто, любит гений Моцарта, считал пушкинского Сальери К. С. Станиславский.
Возможно, потому, что первоначально пьеса имела название «Зависть», её драматизм ещё со времён В. Г. Белинского видели именно в зависти таланта к гению. Незатейливая концепция «неистового Виссариона» стала приоритетной в анализе и осмыслении «Моцарта и Сальери». «Талант» по Белинскому (возможно, и вас так учили в школе, и, не дай бог, даже в университете) при этом незаметно превращался в «посредственность», а затем и в «бездарность», и всё, в конечном счёте, сводилось к примитивной схеме «гений и злодей». Так появился, по Борису Штейнпрессу, «третий Сальери» – и не исторический, и не пушкинский. Поскольку пьеса Пушкина, с незначительными сокращениями, была использована Н. А. Римским-Корсаковым в качестве либретто одноимённой оперы, этот «третий» получил своё дальнейшее развитие и в работах отдельных музыковедов. Так, если Д. Благой «квалифицирует» Сальери как аскета и фанатика, то у Абрама Гозенпуда, он уже «фанатик и изувер, идущий на преступление».
Моцарт + Сальери = Пушкин
Между тем, в пьесе Пушкина нет указаний на бездарность или посредственность Сальери. «Ведь он был гений, как ты да я», – говорит Моцарт. И сам Сальери, судя по заключительной части монолога, себя серостью не считает. Представление о пушкинском Сальери как о лишённом творческого воображения ремесленнике отвергал ещё Сергей Бонди: «Всякому, знакомому с музыкой, известно, что это и есть нормальный, обычный путь всякого композитора, сочиняющего не лёгкие примитивные песенки и танцы, а серьёзную музыку… Несколько лет будущие композиторы занимаются в консерваториях таким «ремеслом».
Ну и потом, пушкинскому Сальери ведомы и «восторг», и «вдохновенье», его музыку любит Моцарт!
В упрощенном восприятии Сальери принято говорить о его сухом рационализме в противовес живой непосредственности Моцарта, но, извините, кто из них предался «неге творческой мечты»?! Это признание из монолога Сальери, но так бы мог сказать о себе и Моцарт, да и сам Пушкин – это формулировки из его лирического «словарного запаса». Труд и вдохновение – если внимательно читать пьесу – в равной мере знакомы двум героям, как были они знакомы и третьему – Пушкину.
Противопоставление труда вдохновению этой маленькой трагедии такое же надуманное, как и пресловутое противопоставление «алгебры» – «гармонии». И еще вопрос, а противопоставляет ли Пушкин в своей трагедии «два рода гениев», один из которых создаёт вечное, другой – преходящее. Это больше похоже на несостоятельные «интертрепации» слегка увлекшихся исследователей…
Дмитрий Благой (Старший) сравнивал пушкинского Сальери с бароном Филиппом из «Скупого рыцаря»: мол, его возмущает то, как мало легкомысленный Моцарт ценит данное ему свыше. Самого же Пушкина, считал литературовед, пленяла именно эта черта Моцарта.
Анна Ахматова, напротив, была убеждена в том, что Пушкин видел себя отнюдь не в Моцарте, как считает большинство, а в Сальери. Доказательством ей служили черновики Пушкина, запечатлевшие танталовы муки творчества. По воспоминаниям Надежды Мандельштам, Ахматова протягивала нить от «Моцарта и Сальери» к «Египетским ночам» и считала, что Пушкин в этих сочинениях противопоставлял себя Адаму Мицкевичу: лёгкость, с какой сочинял Мицкевич, Пушкину была редко присуща, но страшно восхищала.
Осип Мандельштам на это возражал: «В каждом поэте есть и Моцарт, и Сальери». И в пьесе Пушкина, считает пушкинист Сурат, Моцарт и Сальери – две творческие, и, может быть, не только творческие, ипостаси самого автора.
И для Ахматовой, и для Мандельштама драматизм «маленькой трагедии» Пушкина заключался не в зависти среднего таланта к гению, а в столкновении двух путей творчества.
Мандельштам при этом отдавал безусловное предпочтение пушкинскому Сальери. Если по мнению Благого, Пушкин «решительно осуждает в лице Сальери, с его бесчеловечным эстетизмом, так называемое «искусство для искусства», то Мандельштам видел в нём нечто прямо противоположное и всегда актуальное: так, почти через век после создания пушкинской трагедии, в конце 20-х годов ХХ века, он писал: «На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и её творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник- мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира».
Сальери – убийца-самоубийца
Кажется, после шутливой ремарки Гумилева (Николая), только спустя полвека литературовед Вадим Вацуро первым из советских пушкинистов обратил внимание на то, что Сальери в пьесе предлагает Моцарту «чашу дружбы». А у поэтов пушкинской эпохи «чаша дружбы» – это чаша, которую пьют по кругу. Так что, выходит, по Пушкину, разумеется, что Сальери и сам намеревался выпить яд вместе с Моцартом. Вацуро таким образом объяснял восклицание Сальери, мимо которого полтора столетия проходили пушкинисты: «Постой, постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?». «До свиданья» Сальери в ответ на моцартовское «Прощай же!» в этом контексте приобретает вполне определённый смысл: в его словах звучит надежда на загробную встречу… Между прочим, довольно настораживающий своей повторяемостью мотив пушкинской лирики той самой Болдинской осени.
P.S.
О маленькой трагедии (действительно крошечной – всего 15 минут художественной декламации) можно говорить сколь угодно долго, так много смыслов и настроений вложил в эту драматическую жемчужину великий Пушкин (я ничего не сказала о библейских и философских основах сюжета и о пушкинских представлениях об этих очень важных для поэта идеях).
Напоследок замечу: все эти смыслы и настроения «Моцарта и Сальери» множатся, наслаиваются и переплетаются в диалогах двух художников при несомненном авторском участии самым причудливым образом. «Солнце» отечественной поэзии – это вам и вправду солнце, а не какая- нибудь лампочка Эдисона, – освещающее с одинаковым равнодушием и теплотой и темные, и светлые стороны наших малосовершенных душ.
185 лет прошло, а монологи Сальери из пушкинской трагедии не дают покоя. Тревожат, притягивают. Есть что-то ужасное в пушкинской вербальной версии благоговейного трудолюбия Сальери при поклонении божеству Музыки, в жертву которому он приносит всю свою жизнь, не довольствуясь лишь гармонией, а поверяя ее еще и алгеброй, превращая тем самым божество в труп! А ведь по наставшим ныне «цифровым» временам, это и есть высшие способы и возможности расчислить и постичь земное и небесное, разъять и объять всё математическим умом, как Сальери музыку:
Отверг я рано праздные забавы;
……………………………………..
От них отрекся я и предался
Одной музыке……………………
……………………………………..
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Эту исповедь Пушкин словно бы сам слышал, застенографировал и бережно расшифровал для нас, без всякого обличения, а с уважением к откровенности терзаемого фобиями музыканта. И мы это признание с пониманием читаем, потому, что похожи на Сальери. Я говорю не только о зависти – еще хорошо, если к таланту, а то ведь и чужому богатству завидуем, и чужой удаче, я даже знаю одного завистника чужому красивому увяданию, – мы похожи на пушкинского отравителя тем, что возлагаем, в частности, преувеличенные надежды на свою «алгебру». Признайтесь, разве вы не заставляете даже своих детей опираться именно на «алгебру», а не на непонятное вдохновение: придет оно или не придет – неизвестно…
Но у Пушкина все еще сложнее и закрученнее, и взаимосвязаннее, если можно так выразиться.
Так что, тут с одного-двух прочтений маленькой трагедии во всем не разберешься.
Я лично открываю пушкинского «Моцарта и Сальери», включаю свою излюбленную 40-ю симфонию Моцарта (вы, кстати, знаете, что ее впервые в 1791-м году исполнил именно Антонио Сальери?!) и «опять гармонией упьюсь / Над вымыслом слезами обольюсь».
Чего и вам желаю в этот осенний понедельник.
Марина Краенко, культуролог:
Пушкин против Вольтера – философия одной маленькой трагедии
Неискушенная публика читает «Моцарта и Сальери» Пушкина совсем с иными чувствами и мыслями, чем извращенцы-филологи и прочие «академики».
Наивный – и самый искренний, к слову, читатель, возмущен преступлением Сальери, разочарован его практицизмом и рефлексией и очарован светлым беспечным образом Сальери. Все, что написал авторитетный Пушкин, принимается им за чистую монету. А Пушкин- проказник и выдумщик рассказал – как всегда – обо всем. В его маленьком драматическом шедевре о венских музыкантах «зашифрована» библейская притча о Каине и Авеле, отражены развитие современной поэту европейской музыкальной мысли и даже история уже «импортированной» в Россию заморской философии. При этом сюжет пьесы – в чистом виде онлайн-детектив.
Дело в том, что в пушкинскую эпоху российское культурное пространство было сужено до немыслимой, если хотите, степени. Своего-то ничего у нас тогда не было в плане адекватной политики и социологии, философии, музыки, да и прочих наук, что бы нынешние горе-патриоты про родную историю не выдумывали. Поэтому пытливому уму Пушкина, его демократическим убеждениям и хорошему вкусу европейские проблемы развития науки и культуры были ближе и интереснее, чем затхлость отечественной художественной среды. Он и Моцарта с Сальери воспринимал не как гениев, а как современников, мучимых знакомыми ему исканиями, сомнениями, идеями. Поэтому исследователи так любят препарировать «драматические опыты» отечественного гения – в них полный срез представлений просвещенного россиянина первой трети XIX-го века об окружающем мире. Чуть позже и вы в этом убедитесь.
А вот чего нет в маленькой трагедии Пушкина – так это исторических Моцарта и Сальери. С натуральными персонами поэт не экспериментировал – ему же нужно было поговорить о том, что его интересовало и занимало, а рассказ о подлинных М и С – это же совсем другая история, нежели мы читаем в известной тетралогии.
Так что, извините, нет никакого смысла выяснять, насколько исторически правдивы те события, о которых идет речь в пьесе «Моцарт и Сальери», нужно постараться осмыслить философское содержание текста.
А начать этот разговор стоит, как ни алогично это в данном случае звучит, как раз с условности персонажей произведения.
Историческая рокировка: деструктивная райская птичка и баловень судьбы.
Как правило, критики Пушкина чаще обращали внимание на неисторичность его Сальери, забывая, что и Моцарт в его маленькой трагедии имеет мало общего с оригиналом.
Правда, в отличие от Сальери, Моцарта Пушкин не сочинил, а воспользовался образом, уже вполне сложившимся к тому времени в романтической литературе. Для немецких романтиков, если помните, он вообще стал божеством. Поклонявшийся гению композитора Гофман – писатель, художник, композитор и – в основное время – юрист в 30 лет даже изменил имя с Эрнста Теодора Вильгельма на Эрнст Теодор Амадей.
Романтики выводили образ Моцарта даже не из его музыки, а из вполне определённого, однобокого восприятия и искусства, и личности самого сочинителя: гений – безмятежный, не сознающий своего величия, безразличный к мирской суете, к успеху и положению; не знающий мук творчества музыкант сверхъестественной одаренности, «сочиняющий музыку так, как поют птицы», – словом, «вечно ясный и солнечно-юный».
Этот мифический образ оспаривал ещё немецкий музыковед Герман Аберт в начале XX века. Долгое время недоступная широкой публике, но всё же опубликованная частная корреспонденция Моцарта, изобилующая весьма грубым юмором и сквернословием, с содержащимися в ней уничижительными характеристиками коллег, постоянными жалобами на интриги и козни итальянских музыкантов, призванными оправдать неуспех у публики, окончательно разрушила созданный романтиками образ. Таким же романтическим вымыслом было и безразличие Моцарта к положению и славе. Прижизненное положение вообще занимало композиторов того времени намного сильнее, чем маловероятная, при короткой памяти тогдашней публики, посмертная слава. И Моцарт не был исключением – на протяжении многих лет безуспешно искал должности при разных европейских дворах, а в 1790 году, пытаясь улучшить и упрочить своё положение, писал эрцгерцогу Францу: «Жажда славы, любовь к деятельности и уверенность в своих познаниях заставляют меня осмелиться просить о месте второго капельмейстера…». А место было уже, между прочим, занято его австрийским коллегой и даже близким знакомым Игнацем Умлауфом.
И нужно быть уж совсем бесчувственным к музыке, чтобы в самих произведениях Моцарта, помимо светлых тонов, не расслышать и скорбно-лирических, и откровенно мрачных трагических настроений. Впрочем, советское музыковедение, отличавшееся маниакальным пристрастием к вульгарной социологии, придерживалось иной точки зрения на появление мифа о «беззаботном» и легкомысленном гении. Так, известный музыкальный критик советского времени Иван Соллертинский полагал, что образ «гуляки праздного» был создан буржуазными филистерами с целью переложить на самого Моцарта ответственность за то, что он умер «буквально от истощения сил».
Однако исторической правдой является то, что сочинял Моцарт и вправду «легко». Многие свои произведения, исполнив как импровизации, вообще не записывал. Даже в литературе примеров такой воздушности немного: разве, что поляк Мицкевич да ирландец Уайльд, и – не так часто, кстати, окутанный снизошедшим вдохновением «наш» Пушкин.
Ещё меньше похож на свой исторический прототип пушкинский Сальери. В первой части своего монолога он предстаёт человеком, проделавшим долгий и трудный путь к признанию, добившимся высокого положения самоотверженным трудом, отказавшимся едва ли не от всех радостей жизни. К реальному Сальери, родившемуся в 1750 году (всего на 6 лет раньше Моцарта), успех пришёл уже в 20 лет! В 1770-м году, когда была поставлена его первая не учебная опера. К 25 годам Антонио Сальери – уже автор 10 опер, что с успехом шли во многих странах, в том числе и в России. Моцарт же в 25 лет мог похвастаться только «Идоменеем», да и тот пользовался ограниченным успехом.
Сальери был хорошо известен во времена Пушкина как выдающийся композитор. Кроме того, он славился своей принципиальностью в вопросах искусства. Познакомившись с произведениями и взглядами Кристофа Глюка, стремившегося превратить оперу из блестящего декоративного концерта в подлинную драму, а музыку – из палитры виртуозных эффектов, позволяющих певцам щегольнуть красотой и техникой голоса, – в художественное выражение глубоких чувств и переживаний, – молодой Сальери решительно изменил свою старую манеру, став последователем этого реформатора.
Сальери дружил с Бомарше, автором либретто его оперы «Тарар» ( помните, в пушкинской пьесе Моцарт говорит: «Да! Бомарше ведь был тебе приятель/ Ты для него «Тарара» сочинил/ Вещь славную»).
Бомарше в печати выражал восхищение ответственным отношением Сальери к «функциональным обязанностям» оперного композитора: «...он имел благородство, – писал Бомарше, – отказаться от множества музыкальных красот, коими сверкала его опера, только потому, что они удлиняли пьесу и замедляли действие...»
Ну, вот, пожалуй, и все: исторически достоверные детали в маленькой трагедии исчерпываются профессиональными связями Сальери с П. О. Бомарше и . В. Глюком.
Что же касается отравления, то эта сплетня как-то не укоренилась у европейцев. Их версии смерти Моцарта куда более многолики ( кроме лежащей на поверхности – умер от инфекции, эпидемия которой разила в 1791-м сотни венцев):
1) композитора отравили масоны (позднее подбросили вариант «жидомасоны»);
2) отравила жена и ее любовник;
3) отравил разъяренный муж любовницы беспутного Вольфганга Амадея;
4) Моцарт пал жертвой австро-итальянской «войны» за венский музыкальный «престол».
Версия же про «участие» Сальери в смерти Моцарта наиболее устойчива в том варианте, как ее зафиксировал в своем «Амадеусе» английский драматург 2-ой половины ХХ века Питер Шеффер, а позднее воспроизвел в снятом по пьесе одноименном фильме Милош Форман: Сальери не отравил Моцарта, а довел его до кончины многолетними кознями и интригами. Яд в чаше с алкоголем для гения от завистника – исключительно отечественное ноу-хау. Впрочем, нафантазируй Пушкин, что Сальери Моцарта задушил, застрелил, заколол, сразил словом – мы бы всему поверили.
Сальери – Вольтер?!..
Я понимаю, какой кайф чувствуют литературоведы, изучая как Пушкин лепит своего героя – в смысле, Сальери (Моцарт в этом смысле малоинтересен, схематичен – скрипка ангелов – не более). Но не менее увлекательное занятие понять – с кого он лепит своего героя. Тем более, что лепит-то Пушкин в пародийном ключе.
В начале ХIХ века в России был известен «анекдот об актере Ле Кене», в котором дается иронический портрет драматического писателя: «для сочинения истинной трагедии надобно иметь большие познания, быть рожденну стихотворцем, не жалеть ни трудов, ни времени». В своем монологе Сальери как бы по пунктам отвечает тем же требованиям:
«родился я с любовию к искусству
в науке искушенный…
самоотверженье, труды, усердие, моленья» и т.д.
Пародия может появиться лишь тогда, когда пародируемое явление очень хорошо знакомо и схватывается читателем моментально. Нам почувствовать насмешку поэта сложнее, а вот продвинутые современники Пушкина ощущали ее сразу. И тогда становится особенно значимым то, что объектом иронии в анекдоте является фигура трагика-классициста и через него сам классицизм, о котором Пушкина писал, что «эта мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами» еще правила умами в 30-х годах ХIХ века. В 1830 – в год создания «Моцарта и Сальери» – Пушкин писал: «Между тем как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такою ясностию и обширностию, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда, мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание природе и что главное достоинство искусства есть польза». Но немецкий просветитель Иоганн Готшед, основатель «лейпцигского классицизма» не был европейской знаменитостью. Он более известен как пропагандист направления, гораздо более мощного – вольтеровского. Именно Вольтеру теория драмы обязана так называемым «просветительским классицизмом», с требованиями которого во многом перекликается характер Сальери. Классицизм устанавливал в драматургии жесткую нормативную систему. Признавая талант за Шекспиром, Вольтер упрекал великого трагика за отсутствие малейшего знания правил. А, в свою очередь, защитники Шекспира обвиняли французов в подмене гения правилами. В этом контексте легче понять недоуменное негодование Сальери, что его безропотное следование правилам не заменило ему дара. Формулировка Вольтера: «Мы не дозволяем ни малейшей вольности, мы желаем, чтобы автор был непременно в цепях и, тем не менее, казался свободным» – может служить комментарием к тому, почему Моцарт может сказать «вольное искусство», а Сальери – нет. В другом случае Вольтер говорит: «Искусство становится при этом (соблюдении трех единств и т.д.) более трудным, а преодоленные трудности в любом жанре доставляют наслаждение и приносят славу». Если так, то Сальери с полным правом мог «наслаждаться мирно своим трудом, успехом, славой» после того, как «усильным, напряженным постоянством достигнул степени высокой». Характеризуя охранительную и регулирующую роль вольтеровских правил по отношению к трагедии, Ю. Кагарлицкий пишет: «они верно стерегут ее ворота, не допуская туда посторонних, соблюдая чистоту жанра «интенсивного», концентрированного, рационально «выстроенного». Подобные соображения вполне «оправдывают» праведный гнев Сальери на игру слепого скрипача: ведь Пушкин не дает нам однозначного ответа, чье суждение об игре музыканта верно – Моцарта или Сальери.
Взгляд на Сальери сквозь призму вольтеровского канона позволяет понять, почему Пушкин так подчеркивает рационализм этого героя, переключая наше внимание с эстетической на философскую ипостась просветительского классицизма. Просвещение убрало (за ненужностью) бога и ограничило мышление «узкими пределами естества». Зато мир приобрел логику, понятность и стройность. Именно стройность отмечает Сальери в похвале музыки Моцарта. Из философии и эстетики рационализма приходит и столь возмущающий Моцарта культ пользы: "Нас мало избранных <...>// Пренебрегающих презренной пользой».
Имеет отношение к предмету нашего разговора и тот факт, что Глюк, за которым так безоговорочно последовал пушкинский персонаж (и исторический Сальери), тоже был сторонником эстетики просветительского классицизма и утверждал необходимость подражания природе в музыке. Скрытая в пушкинском тексте полемика с классицизмом была отмечена и крупнейшим специалистом по русской литературе Г.А. Гуковским: «Моцарт и Сальери» – это пьеса о трагическом столкновении двух эстетических типов, двух художественных культур, за которыми стоят и две системы культуры вообще». И далее: «Если не опасаться сузить смысл и значение пушкинской концепции, можно было бы условно обозначить систему, воплощенную в пьесе в образе Сальери, как классицизм, или точнее, классицизм ХVIII века, а систему, воплощенную в образе Моцарта, как романтизм в понимании Пушкина». Правда, не совсем понятно из этого пассажа, отчего спор двух художественных мировоззрений должен решаться ядом.
Кроме того, Пушкин написал пьесу, соблюдая не только три единства, но и более глубокие канонические требования классицизма, ориентирующиеся вдобавок на античных авторов и поэтику Аристотеля. Подчинение себя правилам, бывшим нелепостью в глазах романтиков и – по Гуковскому- самого Пушкина, заставляют думать о сознательном желании поэта сместить острие полемики с классицизма не на романтизм, а на Просвещение.
По свидетельству современников, Пушкин не обладал музыкальным слухом, мнения свои о произведениях этого рода искусства старался вообще не высказывать. Однако поэт следил за музыкальной жизнью весьма внимательно. Во всяком случае, в первой сцене пьесы без труда угадываются такие важные для Франции музыкальные события, как оперная реформа Глюка, «открывшего глубокие пленительные тайны», и война «глюккистов» и «пиччинистов». Эта, выводимая прямо из текста пьесы, осведомленность Пушкина в музыкальной жизни Франции позволяет предположить, что за знаменитой фразой Сальери «Поверил я алгеброй гармонию» стоит еще одно имя, сыгравшее заметную роль в полемике тех лет. Речь идет о Жане-Филиппе Рамо, известном композиторе, написавшем множество кантат, мотетов и опер. Однако короткую, но громкую славу ему принесли сочинения по теории музыки. С них он буквально – ай да Пушкин! – «поверил алгеброй гармонию». Рамо рассматривал музыку как науку (в пьесе это сформулировано как «в науке искушенный») и считал, что ее правила можно вывести из одного главного принципа. И за этот «краеугольный камень» он принял резонанс звучащего тела. Рамо заложил теоретические основы современной теории гармонии и имел достойных последователей. Однако для современников его музыка была слишком необычной и рационалистичной, а теория отпугивала перегруженностью математикой. Фраза Сальери об алгебре и гармонии очень точно отвечает теории Рамо. Ведущее значение в музыке он придавал именно гармонии в противовес мелодии, для которой «почти невозможно дать определенного правила», ибо здесь «хороший вкус имеет большее значение, чем все остальное». Рассуждение о мелодии Рамо заключает фразой, проясняющей в какой-то мере музыкальные мучения Сальери: «Итак, мы оставим счастливым гениям удовольствие отличаться в этом роде (т.е. в мелодии), от чего зависит почти вся сила чувств».
Рамо не был приверженцем и даже, наоборот, был противником классических единств и классицизма вообще. Однако в согласии с веяниями времени верил, что разум раскроет тайны музыки и сделает более легким и надежным движение композитора к совершенству. На этой почве включился в благородное соревнование Руссо. Он выступил со своей теорией музыки, в которой оспаривал теорию Рамо. В развернувшейся полемике Рамо дважды (и справедливо) уличил своего оппонента в некомпетентности. Этого Руссо ему не простил. Через восемь лет в своей «Исповеди» он заявил, что Рамо ему завидовал. Вот вам и еще парочка завуалированных завистников, так сказать, «по теме».
Но не с этим анекдотом связана «глухая слава» Рамо в России и не с его теорией, а с именем Вольтера, которому взгляды Рамо пришлись по вкусу. Вольтер счел возможным писать либретто к одной из ранних опер Рамо – он для него (перефразируем Пушкина про Тарара), «Самсона» сочинил.
Вообще посредством «алгебры и гармонии» в друзья к пушкинскому Сальери должен был бы попасть Вольтер, а не Бомарше. Это тем более логично, что Вольтер... был завистлив. Легенда о зависти Вольтера к своим удачливым соперникам имела хождение в России и могла быть известна Пушкину из самых разных источников. Вольтеру, как и Сальери, трудно было сосуществовать с гением. Этот мог бы освистать «Дон Жуана».
Но Вольтер при всей мощи своей фигуры – частный случай зависти. А в эпистолярном наследии Пушкина не раз встречается утверждение о зависти, как родовом признаке просветительства. Говоря об одном из современников, Пушкин отмечал в нем «ту же авторскую спесь, те же литературные сплетни и интриги, как и в прославленном веке философии». В сословной гордости Пушкин видел предрассудок, «утвержденный демократической завистью некоторых философов». Этичен ли такой общий вывод? Ведь это все же – философы, энциклопедисты, люди передовых для своего времени взглядов! Ведь должна же у них быть какая-то система нравственных ценностей. Что же их «катехизис» позволяет, а что запрещает? Может быть, это и есть еще один аспект «драматического изучения» характера Сальери?
Не убий
Повторюсь: отождествлять литературный персонаж с его прототипом, Сальери пушкинского с Сальери, обладавшим плотью и кровью, или с Вольтером, или Рамо неправомерно.
Речи Вольтера – «предводителя умов и современного мнения» «объясняют исторический характер» не реального, но литературного Сальери. Связь между Сальери и Вольтером прочна и не рвется от приходящейся на нее тяжести действительного прототипа Сальери – этической доктрины XVIII века.
Основным пушкинским характеристикам этого века без труда находятся аналогии в характере Сальери. Его принципиальная непоэтичность, как и «почти всех французских поэтов нового поколения», была предопределена, по мысли Пушкина, «духом исследования и порицания», кардинальным разрывом с мифопоэтическим восприятием мира, его переинтерпретацией на чисто рациональной основе. И отказ от религии Пушкин также полагал минусом для искусства, мол, тогда прерывается связь с народными, фольклорными источниками творчества.
Не исключено, что по Пушкину, отбросив религию, просветительская философия не могла не разрушить нравственные основы личности, т.е. этические начала («возлюби ближнего», «не убий» и т.д.), позволяющие человеку отделять доброе от злого и сопротивляться злому в себе. Так, один из авторов «Декларации прав человека и гражданина», в предисловии к «Катехизису», где очень точно воспроизведены этические лозунги революционной французской буржуазии, писал, что этика – «это чисто физическая и геометрическая наука, подчиняющаяся правилам и расчетам точно так же, как другие точные науки». Так что, поверка алгеброй гармонии была совсем не случайным заблуждением больного ума пушкинского героя. Не он изобрел и главную норму, управляющую поведением разумного человека, – справедливость, понимаемую как равновесие между тем, что человек отдает, и тем, что получает от других. Им и поверяет Сальери свое решение, взвешивая на весах справедливость жизни Моцарта:
Что пользы, если Моцарт будет жив?
Нравственные понятия просветители лишили бескорыстности. Этические правила полезны для обладателя, ибо оплачиваются в той или иной форме благоразумными согражданами. Плохой, бесчестный человек – это тот, кто плохо считает свои выгоды. «Не убий», «не укради» и др. – «всего лишь вопрос правильной калькуляции, так же, как добродетель милосердия» – это уже комментирует идеи Вольтера и К современный исследователь морали. Любое преступление рассматривается не как нарушение важнейших традиционных норм, а всего лишь как просчет в оценке и результатах ситуации, с точки зрения своих интересов. Вот так-то. А вы – пьеса о завистливой посредственности. Это маленькая трагедия рушащегося миропорядка…
С рационализированной просветительской этикой полемика, конечно, возможна, но долгая и трудная. Эта философия пережила свой век и перешла в наше время, отразилась даже в обиходном языке в виде формул, типа «ради пользы дела». Ее нравственная ущербность не вполне очевидна. Тем более это было неочевидно во времена Пушкина.
Но …философия, приводящая к убийству Моцарта, не может быть правильной. Для читателя – искушенного, начинающего и даже совсем «непроницаемого» – Пушкин закрепил образ Моцарта на уровне самой горячей симпатии. Замена имени Моцарта в пьесе на нейтральное сделало бы нравственную реакцию на убийство более рассудочной и холодной. А Пушкину нужно, чтобы сердце было «не в ладах с рассудком», реагировало быстро и однозначно. Он против убийства как такового, но понимает, что обычному, уязвимому в нравственном отношении человеку, для того, чтобы объяснить, что убийство – нон камильфо, нужно убить, как минимум, Моцарта.
Между прочим, именно за это мы так презираем Дантеса – он не должен был стрелять в Пушкина никогда и ни при каких обстоятельствах! Как будто в Черт Иваныча Веревкина можно. Да ни в кого нельзя, – настаивал Пушкин.
Москва – Челябинск, Кира Красинская, Вера Владимирова, Марина Краенко
Москва – Челябинск. Другие новости 26.10.15
26 октября ожидаются следующие события – Челябинск. / Это все еще осень? Снег и гололед обеспечены южноуральцам до конца октября. / «Трактор» в поисках дна: челябинцы не смогли обыграть аутсайдера. Читать дальше
* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2015, РИА «Новый День»